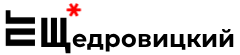Петр Щедровицкий
О неизбежности развития и снижении его рисков
Щедровицкий П.Г. О неизбежности развития и снижении его рисков [Электронный ресурс]: Финам ФМ. радио. 01.03.2012. URL: http://finam.fm/archive-view/5660/
XХ век был одержим развитием. Это было столетие победившего, оголтелого, разнузданного модерна. Как оппозиции сонному и степенному воспроизводству прежнего, уже многократно пережеванного опыта. Модернистской пандемией оказалось охвачено все обозримое пространство: прогрессистская ажитация смещала глобальные центры силы и обрушивала политические режимы, разменивала хозяйственные уклады и распаляла науки и технологии, выламывала культурные коды и размывала художественные критерии, перетряхивала языки и прочие знаковые системы и проникала в частные картины мира и растерянные головы… Это была всеобщая апология прорыва. Всего и во всем…
А исходом этого отчаянного миротрясения тогда, в угаре вожделенного триумфа прогресса и обновления над экскрементами прошлого опыта, мало кто был озабочен. «Нам ли стоять на месте – в своих дерзаниях всегда мы правы…»
Не говоря уже о цене «дерзаний». А она была не то, чтобы бросовой. От полевых опытов перманентной социалистической революции и непомерных амбиций тысячелетнего рейха до политики большого скачка и культурной революции в несчастной Поднебесной. Заплатили, чего там… И «клячу истории» загнали, как и было велено.
Но и с самим «солнечным краем непочатым», который «там, за горами горя» – тоже не очень ладно получилось. Картину исхода эпохи развития трудно назвать триумфальной. Мир остался с глобальными экономическими диспропорциями и потребительским несварением, кризисом суверенитетов и условностью обильно политых кровью государственных границ, с обострением столкновения культур и национальных ценностей и немощью традиционных общностей, деградацией глобальных институтов управления и кризисом элит. Модернизм с агрессивными ценностями всеобщего обновления высеялся постмодернизмом, лишенным всяких ценностей… Одержимость развитием обернулась воспроизводством и умножением ложных целей…
Очевидно, что минувшее столетие дискредитировало практически все явленные миру модернистские идеи, от коммунистической до либеральной. Но, похоже, дело не только в этом. Как и не в том, что высокая, часто непомерная цена развития связана с ментальным страхом человека перед новым и неготовностью его принять. Так уж он устроен. И даже не в том, что всякое развитие – генетически, по определению – кредит у будущего, с рисками скверно изведенного ресурса… Похоже, ложными оказались не цели и идеи развития вместе с неподъемной ценой их достижения, а сама модернистская парадигма, завладевшая умами и миром некоторое время тому назад. Кажется, пришло время перепостановки вопросов и смены парадигмы… Может, действительно, «что-то в консерватории поправить»? И хорошо бы без одержимости.
Уж больно она отдает тотальной чрезмерностью… Будет с нас…
— В эфире «Финам FM» «Слово и молчание». Это новый разговор цикла разговоров, в которых мы стараемся говорить об историческом и личном человеческом опыте интеллектуального напряжения, поиске смыслов и утрате этих смыслов, о мировоззренческих исканиях, метафизических беспокойствах, о сиюминутном и вневременном, о таинстве откровений, невозможности или возможности истин, ну и обо всем том, зачем вообще все это надо, особенно для нас в нашей повседневной жизни. Меня зовут Дмитрий Несветов.
Сегодня наш собеседник – заместитель директора Института философии Российской академии наук, президент Института развития имени Георгия Петровича Щедровицкого, философ, методолог, культуролог, консультант, известный в методологическом мире как ПГ – Петр Щедровицкий. Добрый вечер, Петр Георгиевич.
Добрый вечер, Дмитрий.
— Начать я хотел, может быть, наш разговор, подобно Ленину, так, издалека, может быть, не очень прекрасного или прекрасного действительно. Меж тем, нашим слушателям, наверное, нужно слегка напомнить, что наш собеседник — это и продолжатель, и очень активный носитель той знаменитой методологической парадигмы, рожденной в середине 50-х годов Георгием Петровичем Щедровицким, философом, мыслителем, уникальным в своем роде, которым было это все рождено в Московском методологическом кружке. В который хаживали такие известные люди, как Александр Зиновьев, Борис Грушин, Мераб Мамардашвили и многие, многие, многие. Которая выросла в итоге в полноценную научную школу, целое методологическое движение. И мало кто из таких боевых интеллектуальных единиц прошел мимо этого пространства. Вот я, например, на заре такой беспечной юности тоже не смог проскочить мимо.
В основе этой парадигмы, если совсем коротко, чтобы мы понимали, лежит деятельностный и мыследеятельностный подход, ну и представление о том, что история и реальный мир, если совсем коротко… Мы, конечно, к этому вернемся. Я напоминаю просто слушателям, что история и реальный мир есть пространство реализации процессов мышления и мыследеятельности.
Так вот, в одном из ваших текстов про историю движения, про вашу личную историю я наткнулся на одну мысль, на одну фразу о том, что к началу 80-х годов у вас возникло ощущение о расхождении с Георгием Петровичем, с ГП, в понимании целей и ценностей методологического движения. Вот если можно сейчас об этом вспомнить или рассказать, в чем было это расхождение и как оно повлияло на сферы вашей активности в дальнейшем. Помните вы этот фрагмент, эпизод? Мне просто это очень важно, потому что я тоже сходился, расходился, вот как-то любопытно, с чего у вас это началось.
Ну, вы знаете, во-первых, с сегодняшней точки зрения мне, конечно, более интересно нащупывать не столько расхождения, сколько общие моменты. Говорят, что любое действие, оно движется энергией заблуждения. Когда мне было 20, находясь лицом к лицу с таким неординарным человеком, как Георгий Петрович Щедровицкий, конечно, всегда хотелось немножко отстраниться, не пропасть внутри этого фейерверка идей, мыслей, энергии. Не раствориться, не стать таким же, а, наоборот, выделить что-то свое, пусть какую-нибудь маленькую деляночку, но сказать, что вот это мое и я буду это дальше развивать. И, продолжая традицию, это очень важно чувствовать за спиной опору тех идей и фундаментальных положений, которые созданы не за год, не за два, а за десятилетия, может быть, даже за столетия. Но, с другой стороны, говорить, что ты тоже вносишь в это какой-то посильный вклад.
Сегодня я вот читаю пятый год уже курс лекций для узкого круга интересующихся по истории Московского методологического кружка. И вот, роясь в архивах, перечитывая некоторые тексты, которые я читал 20 лет назад и 25 лет назад, я читаю их совершенно по-другому. Ну, все знают эту простую психологическую истину, что мы во многом понимаем то, до чего сами догадались, до чего сами дошли в своем развитии, поэтому, когда мне было 20, я вычитывал одно, сейчас я вычитываю совершенно другое. Но если все-таки пунктирно наметить эту линию и оппозиции связи, то она проходит по водоразделу «инструментарий и картина мира».
Вот у многих учеников Георгия Петровича присутствует такой, я бы сказал, наивный инструментализм, что вот есть средства, что эти средства, они всем доступны, что они решают любые задачи, и, более того, что ими каждый может воспользоваться. Знаете, есть такая восточная мудрость, что ты, когда, например, осваиваешь техники единоборств, то ты осваиваешь их ровной в той мере, в какой у тебя меняется представление о мире. Ты меняешься сам, и твое мировоззрение становится и глубже, и богаче, и оно становится пронизано какими-то базовыми ценностями, а если этого не произойдет, ты никогда не перейдешь на следующий уровень техники. Вот это и есть, на мой взгляд, существенная проблема движения и многих последователей Георгия Петровича.
Я считаю, что сам Георгий Петрович, вот сейчас перечитывая тексты, как уже сказал, он тоже для себя переосмыслил шкалу ценностей в плане отношения между инструментами, средствами и картиной мира, и ценностями, включенными в эту картину мира.
— Понятно. Я совершенно согласен насчет вот этой проблематизации универсальности. Я просто могу вам сказать, что меня тогда смущало и, может быть, время от времени это смущение возникало чаще, реже, по-разному. Вот эта замечательная идея управления развитием, развитие, понимаемое как оппозиция воспроизводству и пустому функционированию, в самой этой идее заложена одно, по крайней мере, некоторое внутреннее беспокойство. Связано оно с тем, что если инструмент или весь инструментарий управления развитием доходит до каких-то степеней универсальности, то он в любом случае в какой-то момент имеет тенденцию к повторяемости, к все тому же воспроизводству. И тот же самый хитрый Георг Вильгельм Фридрих Гегель нам все время подсказывает, что любой предикат или любое свойство любого предмета, доходя до своего абсолюта, оборачивается своей противоположностью. Так же, как и в физике современной: бесконечно малые и бесконечно большие величины, они теряют различие, между ними различий практически нет.
Здесь возникает вопрос о том, каким образом всякий раз… «Воспроизводить» – неудачное слово. Но подталкивать всякий раз снова к поиску новых инструментов, новых способов. Вот один из ходов вы практически уже сказали, что должна двигаться картина мира, должна как-то она меняться, и это уже вопрос не инструментальный. И вот как сама методологическая парадигма справляется с этим противоречием, если это противоречие есть, конечно, для вас? Вот я помню, что меня это очень смущало.
Вы знаете, во-первых, давайте четко поймем, что когда мы употребляем термин и понятие «развитие», ну, еще Трельч подчеркивал, что мы всегда примысливаем какую-то ценность. Потому что если мы берём в такой объективной модальности тот или иной процесс, то вообще-то, ну, скажем, деградация, шизофрения, если речь идет о психике, она тоже может быть описана как некоторое изменение, смена качеств и так далее, и тому подобное. Когда мы что-то называем развитием, мы всегда, одновременно с констатацией изменения, говорим, что то, что появляется, для нас более ценно по каким-то причинам, чем то, что уходит, отступает и замещается новым. Тогда вопрос: а как мы отделяем развитие от не развития?
И этот парадокс, эта проблема, она в философии была зафиксирована очень давно. И я вот очень часто, когда разговариваю со своими учениками, коллегами, я всегда говорю, что ключевая проблема развития — это не создать что-то новое – это вписать это новое в то, что есть. Приживить, оестествить, как любили говорить в свое время методологи. И вот здесь возникают самые ключевые проблемы, потому что мы знаем огромное количество новаций, которые не стали развитием. Мы знаем огромное количество тупиковых ветвей движения человеческого разума, где были созданы, может быть, и интересные вещи, но не удалось нащупать тот способ, с помощью которого, скажем, это станет доступным более широкому кругу людей, это будет способствовать решению тех проблем, которые у этих людей сегодня и сейчас стоят. И Сергей Чернышев, которого вы наверняка знаете, он любит шутить, он говорит, что обогнать свое время на 100 лет может каждый дурак, вы попробуйте обогнать свое время на полгода, чтобы вас услышали, чтобы то, что вы предлагаете, действительно решало те проблемы, которые стоят перед людьми.
— Чтобы это стало фактом истории. Вот мы как раз говорим о том, что замечательная эта идея о том, что реальность нашего мышления, мыследеятельности реальнее, чем мир вещей, окружающий нас. Но опять же тут возникает вопрос. Мир вещей, который был, который есть, или который только формируется? Понятно, я согласен считать это большей реальностью, и мысль, она далеко не всегда понятна, что она может сама по себе, просто силой своей энергетики. Если это, конечно, мысль. Знаменитая еще такая шутка Гадамера, по-моему, про Хайдеггера, что когда вы говорите, что согласны с Хайдеггером или не согласны с ним, вы выставляете себя на смех. Просто так мимо мысли не пройти. Вот в этом смысле тут, конечно, все очень точно и важно.
Но, вот смотрите, еще одно пространство смущения некоторого. Вот этот инструментарий, особенно когда он становится очень предметным, вот когда он действительно ориентирован на конкретную практику, на конкретное внедрение, во мне вызывал вот еще какой вопрос. Как-то методологические практики, техники, этот инструментарий не допускал… Это, видимо, старая идея, тоже наверняка обсуждавшаяся много-много лет подряд. Не допускал случайности, не допускал некоторой неконтролируемой воли в программировании. И в программировании, и в проблематизации. Потому что если мы конструируем будущее и образ этого будущего, то мы должны быть уверены, степень онтологичности должна быть предельной. Поэтому как, вот откуда возьмется вот эта воля случайности?
У вас есть замечательная метафора, где-то я прочитал в каком-то тексте о том, что история всегда рожает в муках и в антисанитарных условиях. Что такое антисанитарные условия? Это возможность подцепить любую заразу, фактически, это флуктуация случайностей. Вот с этим как? Ведь в конце концов, физика с биологией тоже… Что такое изменчивость? Та же самая случайность, по большому счету. Или принцип неопределенности в физике? То же самое. Есть некое… Мы должны допускать в этой картине мира или в образе будущего некое пространство для чужой воли, для неконтролируемой воли. И если мы этого не допускаем, значит, наша картина неадекватна. Вот есть в этом что-то, в этом сомнении что-то, вот, по крайней мере, всегда меня беспокоившее.
Ну, Георгий Петрович бы сказал, наверное, что это во многом проблема смены позиции. Если я осуществляю некоторые действия, то, не будучи уверенным в ценности того, что я делаю, в значимости того, что я делаю для решения того или иного круга проблем, я просто не смогу действовать. И внутри моей позиции я должен быть совершенно адекватен самому себе.
Как только мы меняем позицию и смотрим на это действие извне, мы должны понимать, что помимо одного действующего есть много других, их развитие, конечно, не предопределено. И оно, конечно, будет результатом не просто равнодействия тех или иных сил, энергий, но еще и, в конце концов, адекватности того или иного действия неким внешним обстоятельствам. И из этой позиции мы, конечно, должны сказать, что оно случайно. Как соберется коллективная человеческая энергия, почему в одно время произойдет и станет значимым один способ мышления и деятельности, а в другое – другой? Ну, в основном можно ответить только постфактум.
— Да, когда факт смазывает влияние случайности.
Помните, если приводить пример из такой экономической сферы, у Броделя есть очень хорошая фраза, он говорит: «Когда глядишь из сегодняшнего дня, совершенно понятно, почему сначала Венеция, потом Генуя, потом Антверпен, а потом Амстердам. А вы попробуйте сейчас скажите, где возникнет следующая Силиконовая долина», и выяснится, что у вас вообще нет никакого инструментария для того, чтобы провести такую оценку.
— Согласен, да. Я когда говорил в частности о случайности, вот в конце 80-х – начале 90-х годов был жив один пример очень такой, он стал уже вполне хрестоматийным политическим примером, из политической истории новейшей, и он многократно описан. Ну, просто тогда это было близко. Декабрь 1989 года, город Бухарест, когда произошли все эти страшные события со сваливанием режима Чаушеску. И там описывают вот этот знаменитый эпизод, когда огромная толпа людей в центре города вышла потребовать какие-то… Ну там, с какими-то социальными требованиями, в общем, никто там режим валить-то не собирался, но довольно жесткими. И вышел на балкон своей резиденции Чаушеску, и состоялся вот этот контакт, и закончился он тем, что толпа начала напирать в силе и энергии своих требований. Вот политической этой историей описан этот момент, когда Чаушеску не выдержал этой энергетики и сделал шаг назад. Это увидели все и зафиксировали все.
Он мог его не сделать. И закончилось все… Понятно, что режим бы пал рано или поздно, но, может быть, он пал бы совсем не так чудовищно, кроваво, с этой жуткой казнью и так далее, если бы не было этого шага. Вот этот шаг очень многократно описан, как то, что могло принципиально развернуть всю ситуацию, всю онтологию, которая складывалась буквально на глазах. И вот когда анализируешь… Ну, этих примеров масса, я просто сейчас его вспомнил, как такой из политической жизни довольно известный.
Так вот, понятно, что с наших сегодняшних позиций это размазано фактологией, это так случилось. Объяснить, почему – это можно объяснить, но это уже не в парадигме случайностей объясняется, а совсем в другой. Так вот, все-таки как же инструментарием предусмотреть такие разные возможные развития сценариев? Вот не понимаю, не чувствую.
Вы историк?
— Нет, по первому образованию философ, но так…
Я опять про свой вопрос о смене позиции. Ну, понимаете, значит, он был не уверен. Значит, в его картине мира в этом месте уже была определенная брешь, и он, знаете, он подозревал, что что-то не так. Он, может быть, не мог себе признаться в этом, потому что психология человека, обличенного большой властью, когда он не может не принимать решения, и не может принимать решения. И это на самом деле, наверное, вечная тема для психологов, философов, политологов и так далее. Но каждый, кто попадает в место, требующее принятия фундаментальных исторических решений, он оказывается в этой жесточайшей развилке.
И при этом мы понимаем, читая разные работы об Александре Македонском, мы понимаем, что это не может быть передано. У Аристотеля была очень устойчивая картина мира, и мы прекрасно понимаем, что она потом многократно переоткрывалась, воспроизводилась, лежит в основе современной христианской цивилизации и так далее, но передать ее невозможно. Он учил Александра Македонского, но картину мира он должен был переоткрыть для себя заново, как свою. В тот момент, когда он столкнулся с ситуацией, которая выходила за рамки его понимания, он с ней не справился.
— Не справился. Понятно, хорошо. Тогда вернемся в глобальный контекст от этих чудесных методологических идей. Я знаю, что просто эта тема вас волнует, и один из тех узлов, на который обращено ваше сегодняшнее внимание, это кризис глобального государственного регионального управления. Вы часто в своих текстах, особенно последних, повторяете о том, что решение мировых проблем лежит в сфере управления, это управленческие темы. И в первую очередь, ну и в том числе это связано с принципиальным изменением парадигмы, модельной парадигмы глобального управления, сменой моделей иерархических и пирамидальных на некие сетевые.
Вот сегодня, просто через запятую, в чем выражается острота и масштаб, как мне, по крайней мере, видится, глобального кризиса в целом. Это и экономическое пространство, экономические диспропорции, кризис перепотребления, все это налицо. С другой стороны, это выявившийся не так давно, но сейчас уже бьющий по глазам, кризис суверенитетов и границ. Казалось бы, столько веков все страны мира поливали эти суверенитеты и границы собственной кровью, для того чтобы они были монолитны, а сейчас они стали совершеннейшей фикцией. Сегодня центр силы может принимать любые решения и осуществлять любые действия, независимо от суверенитетов и границ. С третьей стороны, обостряется столкновение разных культур и ценностей. Вся вот эта политика мультикультурализма, политкорректность, все это совершенно не является хоть чем-то актуальным. Дальше – кризис уже сложившихся общностей. Мы видим, что происходит в ЕС, мы видим, как раздирает, казалось бы, монолитную лигу арабских государств. Понятно, что по поводу, но тем не менее. Примат общих ценностей заменился приматом и импульсом частных и конечных интересов, к сожалению.
Чего уж тут говорить, деградация глобальных институтов управления от ООН до мировых резервных валют, которые вообще существуют сами по себе, уже плевать на все эти бретонвудские, ямайские и прочие глупости, просто как живут, так живут. Не говоря уже о последнем этом элементе чудовищном совершенно с моей точки зрения – это кризис мировых элит, он уже очевиден. И такой вот гербарий этого мирового кризиса, вот чего с этим гербарием делать, Петр Георгиевич, как вообще к этому подойти?
Ну, вы знаете, конечно, у меня нет ответа на вопрос, что делать со всем гербарием. Дело в том, что вот этот принцип соразмерности мышления позиции имеет очень важный такой этический план. Идея мыследеятельности состоит в том, что мышление, коммуникации и действия должны быть соразмерно друг другу. В тот момент, когда у нас разрывается эта связь, в тот момент, когда мы делаем одно, говорим другое, а думаем третье, ну, в некотором смысле устойчивость теряется. Поэтому говорить о решении любой и всякой проблемы просто невозможно, нет той позиции, из которой про это можно осмысленно говорить. У меня есть небольшой опыт решения вопросов регионального, муниципального, небольшой опыт решения вопросов корпоративного и сетевого управления.
Ну, когда речь идет о сетевом управлении, то это, конечно, методологическое сообщество, здесь свои вопросы и проблемы. Но, поскольку это сообщество действительно представляет собой и научную школу, и вместе с тем многие ученики Георгия Петровича, многие последователи Георгия Петровича, они, в общем, занимают вполне понятные деятельностные позиции, то, конечно, так сказать, осматривая вот этот ландшафт, ты видишь очень много интересных, удачных опытов решения управленческих проблем.
И поэтому я иногда набираюсь смелости, и говорю о том, что тот инструментарий, который разрабатывал Георгий Петрович, и те представления о мире, которые он, продолжая традицию европейского философского мышления, строил всю свою жизнь, строил, прежде всего, на себе, но и в неких внешних, овнешненных формах, в текстах, позволяют определенные классы проблем решать.
— Хорошо. И тогда о применимости этого инструментария мы поговорим после небольшого перерыва. К очень важным темам подошли. Не уходите, мы говорим о том, что нас беспокоит.
Рекламная пауза в эфире…
— Это «Слово и молчание». Я напоминаю, что сегодня наш собеседник – Петр Щедровицкий, заместитель директора Института философии Академии наук, консультант, культуролог, философ, мыслитель. До перерыва мы говорили об очень важных вещах. Как-то подошли к тому, с какого вообще бока подходить к тем глобальным процессам, которые внимательный и даже не очень внимательный человек замечает и, в общем, констатирует в весьма такую непроходимую пока с точки зрения возможностей ситуацию, с тем, что происходит вокруг нас.
Мы говорили до перерыва о том, что одна из особенностей, быть может, современного мира состоит в потере картины мира. Вот наш гость сделал такой небольшой заход, и вот мне хотелось бы сейчас сегодня в оставшейся части нашего разговора акцентировать на этом внимание. У меня есть как бы некое свое доморощенное такое представление довольно старое о том, каким образом… Я совершенно согласен с тем, что картина мира – вещь принципиальная, это витгенштейновское понятие (ему, по крайней мере, приписывается). Часто историки и философы задают вопрос о том, что первичнее – галсы исторического процесса или картина мира, которая меняется в головах у людей и становится неким коллективным представлением о мире. Но для методолога такого вопроса нет, как понимаю, картина мира первичнее, я в этом смысле совершенно с этим согласен.
Так вот, свое доморощенное представление грубое, конечно, очень, о том, что… Ну, скажем, картина мира — это некое определение или постановка чего-то в центр со своих представлений. Ну, предположим, античный период – боги, истина. Период средневековья – в центре мира был бог единый. Грубо, конечно, но, тем не менее, общий смысл. Эпоха возрождения развернула всю эту ситуацию и в центр мира поставила через анатомические театры и прочие введения ценностей, поставила человека. Человек был в центре мира довольно долго, до тех пор, пока в XIX веке народились всевозможные сверхчеловеки, от ницшеанского до коммунистического, от универсального рационализма до либеральной идеи. Эти сверхчеловеки оттоптались как следует на нашей истории в ХХ веке, а к концу ХХ века, к началу нашего с вами времени, как-то человек потерялся вместе с картиной мира.
Вот есть некоторое ощущение того, что такого понятия, о котором можно было бы говорить с некоторой такой исторической ретроспективной позиции, о таком понятии как «картина мира» сейчас говорить очень сложно, ее нет, она растворилась в чем-то. То ли в истории, то ли в представлениях, то ли в технологиях, то ли еще в чем-то. Отчего отталкиваться? Вот мы заговорили о глобальных противоречиях, о глобальном кризисе. Отчего тут можно оттолкнуться, если все это размазалось? Или я ошибаюсь?
Ну, во-первых, давайте акцентируем одну проблемную точку. Вы ее затронули, но я хочу ее усилить. Когда мы говорим «картина», ну, первый образ – это то, что висит на стене напротив нас. Проблема использования метафоры «картина мира» состоит в том, что это та картина, в которой мы сами изображены на холсте. Мы находимся внутри этого мира, и мы строим его картину, всегда решая два вопроса, ну, по крайней мере, два – это вопрос о сущем и вопрос о должном. Это вопросы, теснейшим образом связанные друг с другом.
Иметь картину мира – это не просто знать, как устроен этот мир, как будто бы я являюсь объективным наблюдателем и из какой-то непонятной внешней позиции все это описываю. Нет. Это значит иметь ответ на вопрос: а что требует этот мир от меня, как действующего в нем? И какие ограничения этот мир накладывает на меня, как живущего, действующего в нем, и заботящегося о том, что я – не последний житель, что после меня будут как минимум мои дети и внуки, но вообще человечество будет продолжать существовать? И вот когда мы строим такую конструкцию, она гораздо более сложная, чем, например, систематизировать какие-то результаты научных исследований или принять на веру какую-то конкретную объективную картинку, нарисованную наукой или философией.
Если с этой точки зрения посмотреть, то вообще-то человек никогда не был в центре. Он не может быть в центре, он не может быть рамкой самого себя, он всегда должен соотноситься с чем-то, что больше него. Ну, а что больше него? Понятно, что есть космос…
— Мир, да, условно.
Ну, и каждый из нас рождается и через какое-то время задает вопрос, как мой четырехлетний сын: «А кто эти звезды туда повесил?» Ну, в общем, каждый рано или поздно приходит к этому вопросу. Есть картина теологическая, в которой действительно ведет диалог с богом, и мир этот создан богом, и есть та картина мира, которую начали создавать философы, как целенаправленный проект, переходящий из поколения в поколение последние лет 400. Да, безусловно, сама идея построения метафизики или ответа на вопрос «как устроен мир на самом деле?», конечно, гораздо старше. Но только лет 400-500 тому назад философы для себя и внутри своего сообщества признали, что у них есть право и возможность построить светскую картину мира. Более того, научная картина мира первоначально была частью этого проекта.
А вот дальше я с вами согласен. Теологическая картина мира, конечно, претерпела очень существенные изменения после известных событий протестантской революции, потому что… Вы же тоже хорошо понимаете, что если я говорю, что мир устроен так, а рядом находится представитель другой конфессии, он говорит, что мир устроен по-другому, то у простого слушателя возникает вопрос: «Слушайте, ребята, вы между собой-то разберитесь, прежде чем мне говорить, как устроен мир». Поэтому возникло большое количество дискуссий по этому поводу внутри, так сказать, самой церкви и внутри тех групп, которые размышляют над этим вопросом.
Кстати, идет очень мощная эволюция. Я немножко слежу за этими дискуссиями, я хочу сказать, что есть масса вопросов, актуальных для нас сегодня, начиная с биотехнологий и кончая достижениями науки, которые теологическая картина мира пытается переосмыслить и переинтепретировать внутри себя.
— Причем совершенно по-новому, для себя по-новому.
Наука, на мой взгляд, отказалась от этого тяжелого бремени. Какое-то время, может быть, в XIX веке наука и натурфилософия, которая содержала в себе… Шли рука об руку, потом они увлеклись инструментарием, более того, на этом инструментарии они стали создавать искусственные сущности, объяснить которые стало практически невозможно внутри их собственной картины мира. И сегодня я бы сказал, что вот такие онтологические поиски в науке будут только усиливаться. И в ближайшие 20-30 лет, на мой взгляд, не вернувшись к онтологической проблематике, наука не сможет обосновать свое собственное развитие. Ну, сколько можно скидываться миллиардами долларов на построение еще одной исследовательской установки, которая создает артефакты?
И, наконец, я считаю, что философия, которая в ХХ веке столкнувшись с чрезвычайно драматичным опытом мировых войн и революций, в широком смысле этого слова, включая геноцид и так далее, как бы остановилась в недоумении. Потому что вот эта, так сказать, очень романтическая картина мира, в которой человек действительно рассматривался как существо фундаментально склонное к добру, она столкнулась с проблематикой, осмыслить которую философия в последние 50-100 лет не в состоянии пока. Но при этом, если возвращаться к вашему первому вопросу, Георгий Петрович, безусловно, принадлежит к этой традиции, он продолжает ее. И отсюда идея мыследеятельности, идея того, что за счет мышления человек способен придти не только к истине, но и к благу и справедливости.
И вы знаете, сейчас приходится, как я уже сказал, перечитывать и Георгия Петровича, перечитывать многих авторов, которых он, кстати, не читал, потому что круг чтения, когда он начинал, был совершенно другой. И я читаю, например, таких разных людей как, скажем, Хабермас, который родился с ним практически в одно время, Фуко, который родился с ним практически в одно время, Лумана, который родился с ним практически в одно время, и, вы знаете, удивительная вещь, недаром говорят, что мышление всеобщее, они пишут об одном и том же. Они с разных сторон пытаются осмыслить некий общий набор проблемных вопросов, которые, конечно, вопросы их поколения, у нас будут немножко другие вопросы, но мы должны точно понимать, что мы опираемся на них, и Георгий Петрович опирался.
Он тогда любил говорить, что он опирался на Маркса, но ранний Маркс — это та же немецкая традиция, и это та же антропологическая доктрина, которая… Ну, вы знаете, она с доверием относится к человеку, она ему дает фору определенную. Она говорит о том, что он способен быть мыслящим, ну а значит и действующим определенным образом.
— Понятно. Вот эта идея, с которой вы начали, я хочу к этому немножко вернуться, мне кажется, она очень богатая — идея о картине мира как императиве. Помимо всего прочего, не только отражение, но и императив, некоторая требовательность, некоторое определение того, что должно. Вот идея императива, ну, собственно, этим еще и Кант баловался, да и Аристотель об этом говорил, ну, в других немножко контекстах. Вот сейчас как, на какой платформе вам видится построение, вот с учетом особенно того, что мы сказали про глобальный кризис, и помимо всего прочего, я об этом не сказал, но это и так понятно, есть некое ощущение такой тотальной безответственности друг по отношению к другу.
Ну, вы знаете, так получилось в моей личной истории, что еще в середине 80-х годов я столкнулся впервые с тем сообществом, которое занималось у нас в Советском Союзе экологическими вопросами. Вы поймите, я еще помню дискуссии, в которых принимал участие Яблоков, когда ему ответственные лица, принимающие решения, говорили, что отечественный дым глаза не ест, когда он высказывал свои критические соображения.
Прошло 25 лет. Обратите внимание, изменения очень серьезные. Сегодня любой человек вам расскажет про экологические проблемы, и у него есть уже первичное отношение к этой проблематике, оно может быть нерефлексивным, он может не знать терминологию, он может не понимать, так сказать, какие-то… Но вот это медленное формирование того, что философы называют онтиками, самые простые базовые объекты, вот эти императивы, которые не требуют высокоэтажных философских рефлексий, они происходят на ваших глазах. Вы сегодня приезжаете в Китай, еще пять-семь лет тому назад для них не было, ну, для массовых жителей, не было этой проблемы, а сегодня она есть. Сегодня для них ценность – сохранение природной среды, восстановление природной среды и жизни по другим правилам. Она постепенно становится как минимум нормой. Ей не все следуют, вы сегодня столкнетесь, как и у нас, с тем, что люди не разбрасывают мусор по разным корзинкам, понимаете, но еще проходит десять лет, и это становится уже обычным.
Вот, понимаете, не нужно преувеличивать. Да, многие из этих онтик формируются через конфликт. Ну, в конце концов, вы просыпаетесь утром и вы понимаете, что дышать нечем, вам не нужно мерить предельно допустимую концентрацию, вы и так понимаете, что жить нельзя. Но через вот это столкновение с реальностью, а ведь онтология претендует на то, чтобы сказать о бытии, и в этом смысле вы с ней сталкиваетесь, она вам о себе свидетельствует. Да, если вы не слышите, если вы не умеете прислушиваться, если вы не умеете услышать то, что еще, может быть, шепотом она вам сообщает, она вас стукнет, и стукнет очень больно. Но когда вы говорите о безответственности, не знаю, мой опыт показывает, что вот на таких простых вещах эта картина мира все равно есть, она существует, она воспроизводится, она меняется.
Понятно, что какое-то время тому назад, если представить себе, что мы сюда переносим человека, он просто не поймет, о чем мы говорим. Потому что, казалось, а в чем проблема? Мы возьмем от природы все, что можно, и так далее. Обратите внимание, это тоже была картина мира.
— Была, была, и задача, и то же самое долженствование. Нужно взять – задача прямо.
Второй момент. Вы говорите, конфликты межнациональные, межэтнические, межконфессиональные, расовые и так далее. Но, чем больше нас становится на планете, тем более ясным становится понимание того, что другой существует, и, не учитывая его вот этой онтологической реальности, вы ничего не сделаете. Вы можете принять любое решение в каком-то своем узком кругу, вы можете между собой добиться определенного консенсуса. Если консенсус этот не учитывает фундаментальные интересы другого, он развалится. Может, через год, может, через десять лет, а, может быть, и через 100 лет. Просто понятно, что когда он развалится через 100 лет, то обломками накроет всех. И человек все время с этим сталкивается.
Более того, выясняется, что вот это реально, вот то, что другой – другой, а вот то, что один другой думает, что сейчас началось новое тысячелетие, а у другого пятое тысячелетие и совершенно по другому календарю – это уже нюансы, это уже нюансы. У людей разные системы летоисчисления, у них разные представления о том, как устроен мир. Но, сталкиваясь друг с другом, они еще больше проявляют, что фундаментально факт наличия разных точек зрения — это и есть суперреальность.
— Понимаете, тогда у меня возникает очень острое желание сделать еще один шажок назад в обобщении, в том числе шажок назад в нашем разговоре. Смотрите, возвращаясь к ХХ веку. Мы с вами договорились и до этого момента говорили о развитии. Мы понимаем, что развитие — это всегда конфликт как минимум старого с новым, а как максимум вот в том онтологическом контексте, о котором вы сказали. И всегда есть не только новое старое, но и другой «другой», есть альтер эго. Так вот, это всегда конфликт. ХХ век, о котором мы сегодня уже говорили, был этим развитием одержим совершенно. Все эти идеи, которые мы с вами уже перечисляли, — это модернистские идеи, это идеи принципиального изменения, принципиального какого-то переворачивания пространства. Что коммунистическая идея, что универсальный рационализм, что либеральная и так далее.
Так вот, я в таких случаях всегда вспоминаю Сергея Сергеевича Аверинцева, который в конце жизни сказал, что ХХ век дискредитировал ответы, но не снял вопросы. Вот сейчас, рассуждая, у меня вдруг возникло подозрение, что, может быть, в постановке вопросов ошибка? Может быть, нам пора поменять парадигму абсолютной такой необходимости развития? Может быть, в основе некоего движения будущего, некоего освоения будущей онтологии, картины мира, образа будущего, может быть, должны лежать другого рода ценности, не только развитие? Вот вы начали говорить о коммуникации, о сведении… Понимаете, может, в постановке где-то мы не попадаем?
Я понимаю, но мне кажется, что опять с нами дурную шутку играет проблема позиций. Понимаете, вы один раз говорите термин «развитие», понимая под ним конкретное развитие, как любил говорить Георгий Петрович, с определенным артиклем. Вы чему-то приписываете большую ценность, причем чему-то очень конкретному. Ну, например, вы считаете, что инновации это благо, или вы считаете, что жить по-европейски — это благо. Или вы, например, считаете, что ребенок, который более умный, — это благо. И вы, ставя для себя в своей маленькой картине мира это на первое место, другому отказываете в праве претендовать на истину, потому что отрицаете одним утверждением что-то другое. Но если мы выходим вовне, то мы должны сказать, что изменение есть суть самой этой вещи. Какое – это другой вопрос.
— Понятно, понятно.
Понимаете, поэтому мы…
— Нет параметров изменения…
Конечно. И в этом смысле вы ссылались на известные фигуры, на Хайдеггера с его бытием и временем. Ведь он это, собственно, и утверждал, что бытие есть… Сущностно время, следовательно, мы, так или иначе, сталкиваемся вот с этими процессами качественного изменения. Они могут быть разные, с разных позиций мы будем разное считать ценным, между ними будет идти столкновение и конфликт. И конкретное изменение не будет совпадать ни с одним, ни с другим проектом, более того, оно совсем может быть совершенно неожиданным.
Да, вы совершенно правы, как только у нас такой шаг изменений намечается, происходит, в том числе, и социальная поляризация, кто-то оказывается впереди, кто-то в силу массы обстоятельств – неготовности, того, что они немножко опоздали и так далее, — они оказываются сзади. И тогда начинают работать другие механизмы, в том числе политический, который направлен на частичное выравнивание последствий процесса развития. Вот того развития, которое произошло. Не то, которое мы придумали, а то, которое стало фактом.
Но я вам хочу сказать, что человечество не придумало за время своего существования никаких королевских способов сглаживания этих различий. Да, они где-то работают, но где-то не работают, потому что многие вещи ведь связаны с самим человеком, с его ментальностью. И многие люди, кстати, высокообразованные, умные и так далее, они просто не готовы принять это новое, они как раз отказывают ему в праве называться реальностью, несмотря на то, что она уже стучится в двери. Они готовы зарыть голову в песок, они готовы сесть в кружочек таких же, как они, принимающих вот это другое представление и медитировать в этом узком круге, подкрепляя уверенность каждого отдельного участника в том, что ничего не происходит.
— Хорошо, Петр, смотрите, очень важные все эти констатации, а у нас совсем мало времени. Вот какой вопрос, я не могу мимо него пройти в том контексте, о котором мы сейчас говорим. Да, всякое движение, не только развитие, в принципе, движение — это всегда создание новых различий, новых противоречий, новых конфликтов. Безусловно. Не только потому, что мы разные, и не только потому, что сталкиваются разные картины мира, но и в том числе потому, что ресурса всегда на все не хватает, как мы с вами знаем.
Так вот, сегодня, с вашей точки зрения как мыслителя, как интеллектуальной боевой единицы, все равно придется выбирать, как приоритет вам кажется очень важным и принципиальным в сегодняшнем развитии глобальном, региональном, на котором должно быть сконцентрировано максимум ресурса?
На создании механизмов снижения рисков развития.
— И в чем, каких именно, в каких пространствах?
Вы знаете, это очень много, начиная от кружков качества… Понимаете, вот здесь палитра инструментария действительно огромная. Просто нужно, на мой взгляд, раскрыть глаза достаточно широко, и понимать, что одну и ту же проблемную ситуацию разные культуры, разные институты, разные сообщества профессиональные решают по-своему. Но с этой точки зрения от кружков качества на японском или российском предприятии, когда рабочий сам начинает продумывать, как улучшить логистику производственного процесса на его рабочем месте. И это чрезвычайно важный процесс. Может быть, вклад в снижение издержек будет минимальный, но уровень мотиваций человека к тесному и плодотворному труду будет фантастический. И кончая действительно глобальными институтами новыми поддержки процессов принятия решений. Поэтому, если мы понимаем, что развитие неизбежно в том или ином его качестве, про которое мы в 90% случаев вообще ничего не можем сказать, оно всегда в каком-то смысле неожиданно, то мы должны понимать, что распределение и снижение рисков отдельных субъектов от того, что наступит завтра – это важнейший момент.
И здесь, понимаете, у всего надо искать вот эту вторую сторону. Централизация – да, но тогда вы увеличиваете риски на полюсе принятия решений. Децентрализация – вы передаете возможность участия тем, кто не готов в этом участвовать. Вы должны за это… Ну и так далее. И в этом смысле закончу… Как недавно из моих коллег пошутил, что мы плохо перевели Протогора, что когда он писал, что человек есть мера всех вещей – это неправильно, он на самом деле писал: «Человек, знай меру».
— Ну, в общем, актуально, актуально. Более актуальный перевод. Спасибо большое, Петр. Очень любопытный, как мне кажется, и богатый разными идеями был наш сегодняшний разговор.
Я хочу напомнить, что сегодня нашим собеседником был философ, мыслитель, консультант, методолог Петр Георгиевич Щедровицкий. Если вам показались любопытными темы и сюжеты, которые мы сегодня обсуждали, вы можете продолжить свои рассуждения и поделиться ими с нами на сайте – finam.fm. Я напомню, что говорили мы и о глобальных кризисах, и о рисках развития, и о приоритетах в концентрации ресурсов, и вообще о многом очень и очень важном. Еще раз спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо, всех благ!
— Всего вам самого замечательного. Мы услышимся с вами через неделю, как обычно на волнах «Финам FM» в цикле разговоров «Слово и молчание». Всего вам доброго, до свидания.
Беседу вёл Дмитрий Несветов