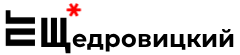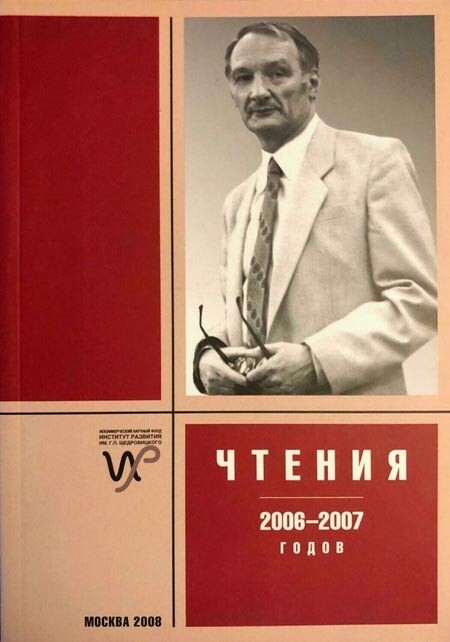Петр Щедровицкий
Вступительное слово на XII Чтениях памяти Г.П. Щедровицкого. Вклад ММК в мировую философско-методологическую мысль: ключевые идеи и достижения.
Щедровицкий П.Г. Вступительное слово // Чтения памяти Г. П. Щедровицкого, 2006-2007 гг. : докл. и дискуссии. М. : Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого, 2008. C. 7-11.
Давыдова. Добрый день, дамы и господа, коллеги, друзья, наверное, еще и товарищи тоже! Спасибо большое, что вы пришли. Мы рады вас здесь видеть. Сегодня – очередное годовое торжественное мероприятие, которое сейчас откроет Пётр Георгиевич. Спасибо.
Щедровицкий. Прежде чем мы перейдем к содержательной части, я бы хотел сказать несколько вступительных слов. После этого у нас будет два мемориальных выступления, и потом мы будем заслушивать те доклады, которые объявлены в программе.
В качестве вступления я бы хотел остановиться на четырех моментах. Тема, которую мы попытались экспонировать на этих чтениях – думаю, что получится это не очень удачно для первого раза – это анализ мыследеятельностных представлений кружка, тех подходов и тех идей, которые начали разворачиваться с середины 70-х годов.
Я уже говорил в прошлый раз, что очень большой вклад в понимание этих идей внесли издания последнего года.
Это, прежде всего, двухтомник – теперь уже двухтомник – «Знак и деятельность», который был подготовлен к изданию Галиной Алексеевной Давыдовой по материалам лекций Георгия Петровича начала 70-х годов, это те материалы, которые обсуждались в начале 80-х годов в рамках нескольких конференций, проходивших в научно-исследовательском институте общей педагогической психологии по представлениям о мыследеятельности и входящих в мыследеятельность интеллектуальных процессах.
И мне кажется, что в этих работах изложена некоторая высшая точка развития представлений Георгия Петровича Щедровицкого, и в этой части представлений ММК, к которой достаточно длительное время двигалась программа исследований и разработок кружка. По этому поводу у нас в течение года проходили достаточно жаркие дискуссии.
Существует другая точка зрения, противная той, о которой я сказал: что сами по себе эти представления о мыследеятельности не являются и не представляют собой нечто особенное в ряду других категориальных и схематических работ Московского методологического кружка.
Я думаю, что по этому поводу нам придется здесь провести специальное обсуждение. Мы предполагали в плане дальнейших обсуждений, что чтения следующего года будут посвящены технологиям мышления. Прежде всего, технологиям проблематизации, технологиям схематизации, конфигурирования и тем представлениям о процедурах и операциях мышления, которые обсуждались в Московском методологическом кружке на разных этапах его развития.
Прошлые чтения, как, наверное, многие из вас помнят, были посвящены проблематике рефлексии и проблематике развития. Благодаря усилиям Владимира Никитаева подготовлен сборник материалов чтений прошлого и позапрошлого года и издан опять в рамках той серии, которую мы открыли в 2004 году.
Я также исходил из того, что вся эта группа обсуждений: три обсуждения, прошлого, нынешнего и следующего года – проходит под общим названием «Анализ вкладов и достижений Московского методологического кружка в современную философско-методологическую мысль». Поэтому в ходе дискуссии сегодня и в дальнейшем, на протяжении всего года на следующих чтениях я бы просил всех удерживать эту рамку.
И если у вас есть какое-то понимание того вклада, который Московский методологический кружок и Георгий Петрович лично внесли в современную философско-методологическую мысль, то об этом нужно говорить прямо и высказывать свои версии, интерпретации, свои подходы, свои понимания. Еще раз хочу подчеркнуть, что, с моей точки зрения, именно представления о мыследеятельности суммируют большой этап работ и могут рассматриваться как этот вклад и это достижение Московского методологического кружка.
Второй момент. Я на протяжении этого года исходил из того, что эти представления о мыследеятельности в ряду других разработок Московского методологического кружка в наибольшей степени близки к тому разделу философской работы, который называется онтология. Представления о мыследеятельности, с моей точки зрения, выражают онтологическую картину этого подхода: мыследеятельностного подхода, системо-мыследеятельностного подхода – который формировался в течение достаточно длительного периода времени и, без сомнения, на разных этапах имел различные онтологические заходы или подходы, различные группы представлений на этом функциональном месте, месте для онтологии.
Но, с моей точки зрения, именно в представлениях о мыследеятельности в наибольшей степени онтологическая установка методологического мышления проявляет и находит себя. Это тоже, с моей точки зрения, может и должно стать предметом специального обсуждения: что такое онтология в представлении Московского методологического кружка, в какой степени мыследеятельностные представления отвечают функции онтологии, в какой не отвечают, что было сделано.
Еще раз хочу подчеркнуть, что это мой подход, мое понимание, но я всегда исходил из того, что в схеме мыследеятельности собраны несколько этапов трактовки мышления. Один раз мышление трактуется как мыслительная деятельность, другой раз мышление трактуется как коммуникация, мыслекоммуникация и понимание. Третий раз мышление трактуется как рефлексия. Четвертый раз мышление трактуется как чистое мышление. Здесь [в последнем пункте – прим. редактора] очевидно влияние Канта с его пуризмом на введение вот этого рабочего понятия, которое точно так же находит свое отражение в схеме мыследеятельности, в ее верхнем этаже.
Логику формирования этих представлений когда-то сам Георгий Петрович назвал методом понятийно-фокусной схематизации. Для тех, кто мало погружен в эту проблематику, наверное, не нужно вдумываться специально в операциональную трактовку этой работы. Но суть заключается в том, что, рассматривая некий гипотетический объект мышления, мы последовательно снимаем с него (в точности по принципу многих знаний) разные проекции. Мы один раз трактуем его как деятельность, другой раз трактуем его же как рефлексию, понимая, что каждый раз в этом сложном объекте мы вычерпываем какую-то одну его сторону. А затем мы пытаемся в точности по принципу конфигурирования (в ранних работах), или по принципу онтологического синтеза (в более поздних работах) из этих разных проекций собрать картину целостного объекта. И схема мыследеятельности выражает результат этой сборки, сополагания в одном пространстве разных трактовок мышления, каждая из которых занимала целый период в творчестве Георгия Петровича и в работах ММК.
При этом я хочу обратить внимание на одну тонкость. Если на первом этапе этот гипотетический объект назывался мышлением, то на втором этапе этот гипотетический объект по мере развертывания исследовательской программы получает и другое название, он начинает называться мыследеятельностью, некой более сложной целостностью, внутри которой само мышление образует какую-то инфраструктуру.
И вот этот переход от идеи исследования мышления к программе исследования мыследеятельности как более сложного образования, в которое вплетено мышление и внутри которого мышление находит свое место в разных ипостасях, и есть, с моей точки зрения, некий шаг развития представлений, занявший практически 35-40 лет.
Вместе с тем мы понимаем, что та схема, которая здесь изображена на доске, и, как я сказал, являющаяся результатом понятийно-фокусной схематизации снятия разных проекций, а затем сборки их в некую новую целостность – это пока еще не онтология мыследеятельности. Это пока картина некого понятия, схемы понятия. Это пока некий принципиальный чертеж того, как может или как должна быть устроена та или иная конкретная мыследеятельность. Для того чтобы перейти к онтологии, нужно, конечно, проделать еще очень большую работу. И в этой схеме указано только возможное направление этой работы.
Но мне представляется, что именно так, по пути поиска новой системной целостности, и шло движение. Каждый раз в мышлении открывались новые его грани, они анализировались, а потом происходил поиск объемлющей целостности.
И, наконец, последний момент. У нас будет третий коллоквиум, и я попросил Бориса Васильевича Сазонова, поскольку он переформулировал немного свою исходную тему, выступить в конце по проблематике схем и схематизации. Я думаю, что такого рода рефлексивный заход, когда мы будем обсуждать уже не мыследеятельность и не представления о мыследеятельности, а представления о схемах и схематизации, могут быть некой точкой завершения общей дискуссии и мостиком к следующим чтениям, чтениям, где, с моей точки зрения, техники и процедуры мышления, переоткрытые, а где-то и заново сформулированные в кружке, должны стать предметом специального обсуждения.
Вот те замечания, которые я хотел сделать в качестве введения. А теперь я с удовольствием передаю слово Александру Моисеевичу Пятигорскому для вступительного слова мемориального плана.
Пятигорский. То, о чем я хочу говорить несколько минут – это не биография, и это не мемуар. Я давно наблюдал это в самом себе: я думаю, что для философа нет большей угрозы, чем биография – любая, и его собственная, в первую очередь. Реальный философ, начав философствовать, отбрасывает и свою, и чью бы то ни было биографию. Биография нейтрализует самые интересные точки в мышлении.
Поэтому я хотел бы говорить о моем друге именно в аспекте восприятия мной каких-то его мыслей. (И даже говоря о наших личных отношениях – они сейчас не имеют для меня никакого значения). И именно в тот период, когда эти мысли еще не были артикулированы в тех формах, о которых сейчас говорил Пётр. Я не хочу назвать это генезисом и, кроме того, мне хотелось бы вам сказать о таких вещах, о которых трудно рассказать другому, вовсе не по какой биографической [причине], а по случаю.
Вот я хочу начать с двух забавных и чисто мыслительных вещей. Не ожидайте никаких биографических анекдотов, меня от них давно тошнит. Они глушат мышление. Если человек хочет мыслить, а ему говорят: «Ты знаешь, что у нас там было в 1938-ом, 48-ом вот был такой случай», – человек перестает думать. Он уже целиком во власти этого длящегося быта, который убивает всякую философию. Поэтому реальные философы от него уходят. <…> Вообще любая отмена возможна, только когда вы досконально знаете, что отменяете, и знаете себя отменяющего.
Итак, я хочу остановиться на двух очень интересных вещах. Первая вещь, и, между прочим, это я специально называю обыкновенным русским словом «вещь». Я не называю это гуссерлевской интенциональностью. Вообще, надо привыкать, как говорил Витгенштейн, выражать самые абстрактные философские идеи на естественном языке бытового разговора, что мы все уже разучиваемся делать за последние полвека. Почему – это особый предмет.
Пожалуй, я начну с этого, с мысли, которую высказал тогда Юра, а я ещё этого не понимал, она только как-то мерцательно у меня появилась. Вообще, как человек крайне замедленного развития, я, конечно, едва тогда за ним поспевал. Но, между прочим, он был первый человек, который сказал мне тогда: «Ты знаешь, всякое слово, которое ты употребляешь, имеет свою историю, – вот вам и лингвистика, и психолингвистика, и генетическая лингвистика, – но ты его употребляешь в данный момент, отметая время. Ты его употребляешь, как все люди, они говорят без всякой истории, они говорят, употребляют слова уже деисторизированного естественного языка».
И вот первый <…> сказал, соотношение нашего разговора о чем-то с той системой терминов, которая была создана наукой <…>, это один из самых опасных вопросов и камень преткновения для философии ХХ века. Сначала поиск терминологии, потом нахождение терминологии, потом засилье и тюрьма терминологии.
И вот тогда он мне сказал (и до этого я об этом ни разу в жизни не думал): «А ведь, ты знаешь, этот процесс по своей природе», – я потом не слышал развития этой идеи, – «глубоко социологичен». Что значит социологичен? Вообще, давайте договоримся – любое употребляемое слово должно быть абсолютно понятно без последующего семинара, посвященного выяснению его значения. Что такое социологичен? И я его спросил <…>.
Благодаря тому, что комплекс терминологии (научной, философской, социологической, политической) стойко вытесняет из разговоров ученых, политиков, философов целые срезы естественного языка, то есть «птичий язык» (это старый английский термин), все более вытесняет естественный язык, как его понимал Витгенштейн. А эта группа, «птичье-языковая» – она ведь становится социально преобладающей в каждой сфере. Сначала социально отделенной, потом дифференцирующей социально и политически данную сферу, будь то философы, биохимики, гинекологи или политики. Но они уже говорят как бы на особом языке, для которого наш элементарный естественный язык является каким-то случаем всегда в каждой данной ситуации более низкого социального статуса.
Вот первый, кто мне об этом тогда сказал. Я тут же, естественно, сообщил это своим друзьям-лингвистам. Они сказали: «Ерунда полная. Это берет сотни лет. Это есть история языка». Только позднее я понял, что это может брать сотни лет, а может случиться в два, в три года, в месяцы, иногда и в дни, в каких-то критических социальных, политических, экономических и культурных ситуациях.
Следующий момент, очень интересный. Понимаете, я говорю только о том, о чем я не имел представления в то время, и о чем никто не говорил, а стал говорить он. Я подозреваю (я спрашивал Петю), что, по-моему, очень мало кто помнит о лекции, которую Щедровицкий прочитал в большой психологической аудитории году, скажем так, в 1964-65 на тему, казалось бы, для него очень странную «Как нам прийти к пониманию истории?». Слышали об этой лекции?
И дальше он стал объяснять чрезвычайно понятно, что термины, слова, которыми мы пользуемся как терминами, на самом деле являются неотрефлексированными словами естественного языка. В данном случае русского. Я хочу сказать о тех трех тезисах, которые он тогда выдвинул.
Первый: изменение еще не есть развитие. Для того чтобы изменение представить как развитие, необходимы какие-то дополнительные логические механизмы трансформации смысла.
Второй тезис: развитие еще не есть история. Речь идет о человеческом обществе и о человеке. Для того, чтобы понятию развития стать историей, мы должны проделать гораздо более сложную работу, чтобы осознать историю как термин не генетический, а логический, как термин, означающий результат трансформации развития в такой же мере, как развитие явилось результатом логической трансформации изменения.
Публика (а было человек тридцать) была потрясена. Почему? Потому что они в первый раз встретились с фактом, когда история <…> – для нас это всё равно. История государства Россия, развитие русской общественной мысли, история цивилизации, развитие техники в XIX веке в Северной Ирландии и бог знает что. На самом деле, каждое из этих слов очень четко редуцируется к своему собственному неисторическому, невременному, а чисто логическому генезису. Собственно говоря, то, что он здесь делал тогда, на ходу – ведь это никогда не было его серьезной темой – в этом он (я ненавижу это мерзкое слово) «предвосхитил». Я бы сказал, что он просто высказал какие-то вещи, предвосхитил развитие новейшей гуссерлианы, новейшей феноменологии, и я бы сказал, говорил об этом гораздо более точно, чем после него Поль Рикёр, последний феноменолог.
И, наконец, последний момент. (Не буду вас утомлять.) Вот это его внимание к естественному языку и его внимание, на самом деле, совершенно интуитивное, никогда не было фокусом его методологической роли к этому принципиально лингвистическому вопросу. Взаимоотношение языка, на котором мы говорим, думаем и якобы, скажем, по Лобову и другим американским [исследователям] действуем – взаимоотношения этого языка с языком описания тех же действий, речей и мыслей, или метаязыком – это проблема чрезвычайно сложная. Это проблема, которая не решается. Мы просто должны ее осознавать.
Дамы и господа, вы понимаете, что мы не живем, решая проблемы. Это одна из пошлостей ХХ века. Мы просто живем. Но те из нас, которые хотят рефлектировать, они на ходу, для того чтобы это было реальная мыслительная жизнь, эти проблемы рефлектируют – забудьте про решение. Вот так началась у нас тогда эта, как я говорил, металингвистическая рефлексия.
И последний вопрос, самый сложный. Что значит сложный? Сложный, как это определял когда-то замечательно Лейбниц – вот, пожалуйста, вам пример, <…> проанализировать ваш собственный разговор, ваше собственное употребление двух слов: «простой» и «сложный»: «Ну, это слишком сложно»… Или, заметьте, все эти наши банальные реакции. Одна реакция: «Ну, это тривиально, это плоско просто». На самом деле, мы ведь не знаем, в каком отношении находятся смыслы этих слов.
Вот я думаю, что первым человеком, который меня научил опять этой элементарной металингвистической рефлексии, был, конечно, Юра. Но я сейчас говорю о последней вещи, самой сложной не в смысле метафизическом, а в смысле, так сказать, пестроты, неустроенности предмета. Ведь что такое «сложный» попросту? Это то, над чем мы еще не думали. А совсем сложный – что мы не можем процитировать того, кто об этом думал.
И вот к разряду таких сложных объектов – конечно, кантианцы сказали бы, что это просто синтетический апостериорный объект – появляется такой объект, как личность. Однажды, я помню, на него набросились и говорят: «Ты живешь в мире имен и фамилий, ты не можешь провести 10 минут, чтобы не сказать: «А вот этот говорил так, а вот с этим отношения такие-то», – то есть как бы <…>. Но только позднее я понял причину этого, не бытовую, это неинтересно, а принципиальную. И я помню, у нас был очень серьезный спор с участием Мамардашвили, который говорил, что всякое личностное фокусирование уводит от сущностности предмета, с которым эти личности связаны своим мышлением, говорением или действием.
И вот тогда была впервые от него мною услышала эта его концепция, которую он, к сожалению, не развил. Это его концепция личности как точки действования, личности как того условного фиксированного места, с которого мы можем начинать или которым мы можем заканчивать анализ любой конкретной формы человеческого поведения, в данном случае маркированного как уже известный нам тип деятельности.
И последнее. Сейчас, думая о том времени, в которое мы жили тогда. Я хотел бы сказать только одно и на этом закончить. Я боюсь, что <…> слушатели начнут умирать у меня на глазах…
Щедровицкий. Это произойдет позже, Александр Моисеевич.
Пятигорский. Момент, связанный с Щедровицким прямо и непосредственно, как ещё с очень немногими людьми. Мы опять и опять говорим, что это был период 30-х, допустим, ужасный, страшный или любой другой интеллигентский жаргон. Или это был период 40-х, или это был период «оттепели», когда думали вот так и так. Он был одним из немногих, кто понимал, что ведь <…> отупляющий подход. Потом о сегодняшнем дне будут говорить: «Это был 2006 год, когда тот думал так-то». И это создает страшную иллюзию псевдоисторического времени. Если человек думает, то не он отмечен временем, духом времени и прочими пошлостями, которые сейчас стыдно произносить, а все произносят. Наоборот, время производно. Время есть функция от типа думания. Как думают, такое и время. Умоляю вас, постарайтесь это понять. Это чрезвычайно важно, и первый импульс этой, казалось бы, детской идеи о времени, и, в конечном счете, о концепции истории как функциональном и производном, дал мне Щедровицкий.
И вот я думаю, что это было время, не когда один кретин стал премьером, а другой секретарем ЦК [КПСС], на каком были помешаны, а это было время, функционально связанное с думанием конкретных людей, которые были настолько сильны, что не подчинялись времени, а своим думанием его в каком-то смысле – пусть в ограниченном – функционально определяли. И он был одним из них и одним из – я позволю себе этот номенклатурный термин – главных думателей того времени.
Благодарю вас за внимание.
Щедровицкий. Я хочу немножко времени в нашей программе выделить для выступления Лола Александра Михайловича.
Лола. Спасибо. Но я волнуюсь. Я не философ. Я представляю (в сегодняшней терминологии) ЖКХ, проблемы города. Почему я здесь оказался? Я оказался тем самым исследователем второй руки в Институте градостроительства по проблемам городов. В советское время проблемы городов в России осмысливались хорошо, если сегодня сравнивать науки. Я был участником семинаров <…> и оргдеятельностных игр. И этим я представляюсь сегодня здесь.
Новость: в России сформирован каркас теории современного города. Может быть, кому-то это покажется наивно и удивительно, но индустриальная и научно-техническая революции опрокинули все теории, которые существовали со времен <…> Витрувия. И в ХХ веке ведущие мировые центры науки бились и до сих пор её не нашли, потому что современный крупный город в своем бешеном развитии преподносит постоянно новости. И теории до сих пор нет. Но мы, российские зануды-ученые, не можем ждать, что нам подарит Запад. У нас есть свой потенциал. И я осмелился разработать каркас, в составе которого, в числе 18 авторов, разработчиков, начиная с Витрувия, — наш Георгий Петрович. Без него теории бы не было.
Я включил вот эти модели мыследеятельности в теорию. Книжка написана. Первый блин. Вот она. Если кто-то поинтересуется – я вам ее подарю. Но с просьбой: просмотрите её. Она написана на «три с минусом», не по содержанию, а по изданию. По подходам – я готовлю новую. Здесь необходима фотография Георгия Петровича. И прошу вас, дайте совет, с тем чтобы представить его более профессионально. Тем более, когда я послушал его старшего коллегу. Там у меня сырость. Это первое.
Второе, важное. Коллеги, советский исследователь-градостроитель, осмелившись коснуться теории, разумеется, пересмотрел все дефиниции, что такое теория. И был удивлен их расплывчатостью, предпочтением описательных теорий объектно-предметной [трактовки] отраслевых наук. И там чего-то не хватало. Тогда я понял, в бессонных ночах: батеньки, а я-то ученик Щедровицкого – там нет именно мыследеятельностного подхода в наших современных дефинициях. Я об этом говорю упорно в адрес молодых людей: займитесь очищением и разработками дефиниций – что такое город.
И последнее. Коль так у вас идет преуспевание, вы – единственная аудитория – (назову грубенько) клан наших ученых, «высшей масти», сказал бы Георгий Петрович, и очень бы хотелось, чтобы вы помогли издать книжку для системы образования. А перед вами сотрудник и участник, разработчик Болонского соглашения. Сегодня идет борьба за молодые души и за реформу образования.
Кстати, новость. Извините, может быть, неприлично, но я был на последних чтениях в Кремле – их засвистала одна треть наших преподавательниц и сотрудниц…
Щедровицкий. Это как раз не новость.
Лола. Это не новость? Засвистали нашего главу реформы Минобразования. Процесс идет, поиски идут. Нужна, Пётр Георгиевич, книжонка для вузов и для школ: «Город и Щедровицкий». Спасибо за внимание.
Щедровицкий. Хорошо. Спасибо, Александр Михайлович.
На этом мы подводим черту мемориальную части и переходим к программе, которая была объявлена.