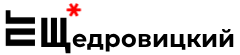Эта беседа состоялась 16 апреля 1997 г. Поводом к ней, с моей стороны, послужили планы трансформации Центра гуманитарных исследований, в рамках которого я вел тогда свою деятельность, в Институт гуманитарного партнерства. Соприкоснувшись вновь с задачами, относящимися к полю культурной политики, я обратился к П.Щедровицкому с просьбой поближе познакомить меня с этим экзотическим зверем и заодно показать, с чем его едят.
Мой визави дал согласие на то, чтобы текст беседы был опубликован полностью в моей редакции, за что я и приношу ему свою дружескую благодарность.
О.Генисаретский
Культура поверх деятельности
— Школа культурной политики была создана в 1989 г., в период игровых интервенций в среду Союза Кинематографистов. Тогда же словосочетание “культурная политика” приобрело среди методологов терминологическое значение. Что побудило тебя остановиться на этом именовании, в какой степени содержание дискуссий в СК определило этот выбор и что изменилось с тех пор в понимании целей и смысла культурной политики?
Сегодня я исхожу из различия четырех основных смыслов понятия культурной политики.
Первый (и наиболее распространенный из них) — общий как для европейских, так и отечественных деятелей культуры, да и бюрократов в этой области. Здесь культурная политика определяется по отношению к некоторым морфологически заданным областям и/или отраслям культуры, как то: кинематограф, театр, музей и т.д.
Меня этот смысл интересует менее всего, так как я считаю, что на сегодня морфологическая трактовка культуры достаточно себя исчерпала и перестала быть плодотворной. Так понимаемая культурная политика в большинстве случаев не может быть эвристичной, практически реализуемой, ибо ее предмет не достаточно определен для действия, а комментарии к нему слишком традиционны и относятся к тому пониманию названных областей культуры, когда никакой культурной политики по отношению к ним не предполагалось.
Второй смысл культурной политики ближе к распространенному пониманию политической культуры, культурной организации политической деятельности. В этом контексте можно говорить о сосуществовании различных политических культур, соотносить их с политическим и экономическим устройством того или иного региона или страны, рассуждать о присущих им политических ценностях и т.д.
Этот смысл мне ближе, потому что здесь есть что обсуждать. Но ключевое в данном контексте — понятие самой политики, а не культуры или культурной политики.
Третье понимание, вытекающее из предыдущего, заключается в том, что с какого-то исторического момента речь вообще идет о широкой политизации культурных факторов: культура и различные культурные функции становятся предметом прямой политической деятельности. В основном, этот процесс лежит в области этнокультуры. Именно вокруг этого вопроса развертывается самый широкий пласт дискуссий о возможностях и проблемах политизации культуры. Но одновременно этим процессом затрагивается и вопросы конфессиональные, и вопросы профессиональной культуры и т.д.
Почему, вытекая из предыдущего, этот пункт самостоятелен? Мне кажется, мы здесь выходим на проблему превращения культуры в предмет искусственно-технической деятельности.
И потому естественно, что следующим этажом в понимании культурной политики стало то, что получило название культуротехники. Это различного рода инженерии, имеющие дело с отдельными культурными нормами и более сложными и сильными структурами, включая современные информационно-коммуникационные системы. Есть целый ряд концепций, вроде медиологии Р.Депре, в рамках которых предпринимаются попытки, во-первых, теоретически осмыслить процессы превращения культуры в своего рода искусственно-техническое образование, а во-вторых, выстроить связанные с ней инженерные практики.
Это понимание культурной политики смыкается для меня с дискуссиями, имевшими место в СК в 1987-1992 гг. Именно тогда, в работе с режиссерами, продюсерами, прокатчиками и представителями других кинопрофессий для меня стал достаточно очевидным жанр культурно-технической работы на определенном — в данном случае, кинематографическом,— материале.
— Для меня в данном тобой перечислении пониманий культурной политики наибольший интерес представляет второй и третий моменты, т.е. то, что лежит на пересечении политики и культуры.
Дело в том, что техническая артикуляция культурных форм, их превращение в предмет технической деятельности было методологически предусмотрено уже в самом начале работ по методологическому исследованию деятельности проектирования (начиная с 1965 г.). Я имею в виду тему “Проектирование и культура” и, в частности, концепцию эквифункциональности культурных норм (= образцов), складывающихся в культуре естественно-исторически, с одной стороны, и проектов, создаваемых в деятельности проектирования — с другой. Отсюда далее выросла проблематика проектной культуры.
Мне кажется, что именно возможность искусственно-технического отношения к объекту, означаемому противопоставление “культурная норма — проект”, и лежит в основе культурно-политических связок (реальных или только воображаемых, эвристичных, как ты выражаешься, а по мне “сильных”, или “слабых”, политически не значимых).
При всем том, политизация культуры — эмпирически наблюдаемая, намеренно практикуемая или только мыслимая — не могла не привести к сдвижкам в понимании природы культуры, а для методолога — к переосмыслению базовых схем и практик мышления, коммуникации и деятельности в пространстве культуры и по поводу нее. Я предлагаю далее в нашей беседе сосредоточиться на этом поворотном моменте.
И тут мы переходим к самому сложному в понимании культурной политики, потому что вовсе не легко выразить этот поворот понимания схематически.
Я начну отвечать несколько издалека — со схемы воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Отправляясь от этой схемы, можно сказать, что есть, как минимум, два различных отношения к культуре.
Первое из них достаточно обычно для методологических дискуссий, когда культура рассматривается как один из ресурсов деятельности. При этом схема воспроизводства используется для изображения не только того, как культура “сама собой” реализуется в деятельности, но и того, как она в ней намеренно используется, “эксплуатируется”.
Второе отношение к культуре связано с пониманием ее как завершения и смысла деятельности. Мне кажется, это близко к твоим размышлениям 60-х годов о месте смысла в деятельности и к той связанной с этими вопросами полемике, которая разворачивалась на внутренних методологических семинарах того времени. Уже тогда, как я себе представляю, дискуссии о смысле, в противоположность пониманию, и о деятельности развертывались, в том числе, и на модели трансляции.
— Ты имеешь в виду разворачивание смысловое или ценностное, сопряженное с понятием культуры?
Я готов был бы проанализировать в дальнейшем это различение, но сейчас, на обозначенном тобой повороте, я хотел бы сказать, что для моего понимания культурной политики важен следующий тезис: культура есть смысл и цель политики. А потому, по сопричастности к политике, т.е. в той мере, в которой политика есть практика воспроизводства интерсубъективности в ее различных поворотах, культура становится смыслом и целью всех тех деятельностных образований, которые вовлечены в политический контекст. И схема воспроизводства дает основание для подобной трактовки культурной политики.
Поэтому не случайно (во всяком случае, для методологического мышления) появление изображения культуры поверх деятельности.
В свое время я начал рисовать схемы такого типа: мыследеятельность (МД), а поверх нее — культура. И стал рассматривать, как отображается и транслируется в культуре уже не деятельность, а МД, и что означает различие действия, коммуникации, понимания и чистого мышления по отношению к различным каналам трансляции культуры.
Культура при этом понимается не только как надстрочное образование, в котором деятельность отображается и застывает, но и как форма, в которой деятельность “обжимается”, форматируется, в которой она имеет самостоятельные каналы развития.
— Но если принять, что политика — это воспроизводство интерсубъективности, то схему воспроизводства деятельности и трансляции культуры нельзя рассматривать и использовать в отрыве от схем кооперативного типа…
… или от схем МД.
Продолжая отвечать на вопрос о видении культуры в ее отношениях с политикой, я хочу сделать теперь шаг чуть в сторону и обратиться к идее И. Гердера о культуре как содержании всеобщей истории человечества. Она была высказана в контексте продолжавшейся с середины и XIII до середины ХIХ в. полемики о единстве человечества и о тех интегративных механизмах, которые это единство обеспечивают. А в связи с этим — о взаимоотношениях экономики и культуры.
Любопытная вещь: известно, что К.Маркс сначала намеревался написать не “Капитал”, а “Закон”. Начав свои размышления с проблематики права, он далее, через понятие правовой нормы, вышел (не мог не выйти) на проблематику нормативности как таковой, а затем — на проблему функциональности любой нормировки… И наткнулся на то, что гегелевская логика не позволяла работать с функциями как таковыми, хотя она, казалось бы, именно на это и была сориентирована. С одной стороны, это была одна из первых логик, сделавших своей проблемой оппозицию морфологического и функционального, но, с другой, она не была “доделана” до таких логических схематизмов, которые позволяли бы эту проблему разрешить. Отсюда неудача марксовой трактовки закона и права и переход в область экономики, которая позволяла более простое морфологическое описание. Ведь вся проблематика “Капитала” построена фактически на парадоксе функционального и морфологического.
— А потом эту право-не-способность марксизма пытались восполнить неокантианцы в концепциях правового и/или этического социализма.
Да, этот ход не мог не стать естественным ходом.
Однако продолжим наш исторический экскурс. К идее о том, что культура есть смысл, цель, ценность и, в каком-то смысле, директриса развития как деятельности, так и политики, подступались достаточно давно. По сути дела, это идея о том, что именно культура есть базис, а все остальное, включая экономику, суть надстройки. Заданная этой идеей линия мысли обозначилась уже довольно давно, но отсутствие адекватных ей функциональных логик не позволяло довести эту линию до более развёрнутой формы мысли. Дискуссии на тему, что же образует базис — культура или экономика — продолжались вплоть до конца 19-го века.
Тот же вопрос просвечивает и сквозь ставшую традиционной оппозицию культура/цивилизация. Что из них является связующим, интегрирующим звеном? Экономика в рамках этой оппозиции может относиться к цивилизации и противопоставляться культуре, но вопрос, что же их них первично, каковы их функции по отношению к деятельности, политике и истории, сохраняет тот же самый смысл.
Будучи доведенной до предела в одной из своих ветвей (например, в политэкономическом подходе, где экономика становится смыслом политики), оппозиция культура/цивилизация, естественно, оказалась исчерпанной. И это ни к чему, кроме как к фукуямовскому концу истории, привести не могло. Когда экономика становится смыслом политики, а экономическая система достаточно оформляется, когда становится понятным, что в ней можно детализировать отдельные моменты, но принципиально менять (во всяком случае, сейчас) ничего не нужно, потому что она нормально отрабатывает свою скрепляющую функцию. И начинается возврат к проблематике культуры, с одной стороны, как смыслу и завершению целого МД, а с другой — как к базису ее.
— Представленный тобою ход мысли, заканчивающийся перераспределением созначений элементов в оппозициях “экономика/культура” и “базис/надстройка”, в свою очередь, вызывает ряд вопросов. Например, что происходит с культурой после далеко зашедшего обособления финансовой сферы от экономики, когда финансовая деятельность становится своего рода виртуальной реальностью и сближается с другими виртуальными формами культурного авангарда? Или вопрос о развитии информационных систем и коммуникационных сетей как нового пространства бытования и творческого развертывания культуры.
Да, эти вопросы также должны быть включены в рассмотрение. Еще Д.С.Миль хорошо понимал, что хозяйство есть этическая категория и, во многом, предмет культурологии, а не экономики. С тех пор стыковка экономических форм организации и хозяйственной деятельности продолжает обсуждаться в качестве одной из ключевых проблем. По мере того, как объектом технико-экономических преобразований становятся все более сложные структуры, вплоть до регионов и стран, эта проблематика тоже выходит на передний план, и мы возвращаемся к традиционному вопросу: как экономика связана с хозяйством и как в этой связке работает культура.
Это одна сторона дела. Вторая же — та, которую называешь ты — высокая финансовая инженерия фактически смыкается с культурной политикой. Там, где она не становится культурной политикой, она не работает или работает деструктивно.
Культурная политика… наивысшая на сегодня точка развития политических практик
— Давай вернемся теперь к развитию твоего романа с культурной политикой до создания Школы Культурной Политики.
После известной игры на РАФ’е в 1987 г. мы С.Поповым стали заниматься проведением конкурсов руководителей и провели целый цикл открытых ОД-игр, связанных со школами управления. Однако наши отношения развивались так, что нам, по разным причинам, трудно стало уживаться, работая на одном и том же контингенте участников. Исходя из одной и той же ситуации, мы, так же как и начинавший работать самостоятельно в то же примерно время Ю.Громыко, стали разрабатывать разные подходы. Но их это не выводило в проблемы культурной политики.
— Кстати, о Ю.Громыко. Разве те идеи и подходы, которые он сейчас разрабатывает на материале образования, национальной безопасности, апеллируя к проблемам этнокультурной идентичности, национального само- и сверхсознания, не могут быть проинтерпретированы в рамке культурной политики, в твоем ее понимании?
Или, как можно догадаться, для тебя важнее не материал, не содержание подобной работы, а применение концепта культурной политики и соответствующей ему культуро-технической установки, оформленной конструкционно и развиваемой систематически?
Основа культуро-технического и культуро-политического подходов заключается в том, что в них слова создают сущности, и поэтому, не сказав этого слова, на мой взгляд, позитивно и конструктивно раскрутить эту проблематику невозможно. Иначе она все время будет сворачиваться в очень странные содержательно-связанные, я бы даже сказал, содержательно-зажатые, программы, которые обязательно обнаружат свою контрпродуктивность. Мы к этому еще вернемся.
А теперь, что касается раскрутки темы о культурной политики. Здесь нужно принять во внимание большую и малую линию моей работы. Большая заключается в том, что я последовательно движусь в осмыслении и систематизации знаний от освоения одних практик к освоению других.
Я начинал с практики образования, которая для меня есть одна из ветвей практики воспроизводства человека. Я заимствовал комплекс представлений на этот счет, наработанных в кружке, и стал развивать их, опираясь на схему МД. Основной инновацией, которую я сделал, было последовательное и разностороннее использование схемы МД — в отличие от ее редуцированных, чисто коммуникативных вариантов, на которых была построена статья Г.П.Щедровицкого “Смысл и значение” и цикл его лекций “Понимание мышления. Смысл и содержание” (1973 г.). Одновременно он читал лекции по педагогике. Там было много любопытных вещей с применением коммуникативного подхода (в отличие от чисто деятельностного), но они не получили, да и не могли получить, дальнейшего развития, потому что использовавшаяся им схема акта коммуникации не давала возможности производить развертки намечаемых линий, не задавала для этого необходимого пространства.
Я начал последовательно применять схему МД для осмысления образовательной практики, результатом этого стали пять или семь версий курса “Основы СМД-педагогики”. Параллельно я, с опорой на Л.С.Выготского, критиковал саму педагогику.
Основной тезис этой критики заключался в том, что философско-антропологический и антрополого-педагогический идеал, сформированный в начале ХХ века и развитый, в частности, Выготским, не может быть реализован только в педагогической практике. То есть педагогическая практика дифицентна в своем смысле по отношению к философско-антропологическому идеалу, сформированному в ходе развития философии гуманитарных наук. И поэтому для его реализации надо искать другие практики, не педагогические. Отсюда сформулированная тогда идея антропоники, потом — идея разных антропотехник, и наконец, идея антропопрактики, которая была во многом мною сформировано под воздействием М.Фуко и его трактовки практик субъективности.
Эта большая линия последовательно развивается, доходит до своего пика и… потом я ее бросаю. Начиная с 1991 г., я все меньше уделял ей внимания, более детально разворачивая в лекциях то, что уже было надумано и уже содержится в моих внутренних текстах. Никаких новых идей, касающихся этой области, у меня до последнего времени не было. Параллельно я начинаю плотно продумывать тематику “Хозяйство и экономика”.
— Поскольку уж речь зашла о педагогике, скажи хоть несколько слов о развиваемых тобою идеях относительно педагогики свободы. Они вытекала из упомянутой тобою критики или имеют другой источник?
Педагогика свободы возникает именно потому, что, как я только что сказал, философско-антропологический идеал не мог быть реализован ни в одном регионе сложившейся педагогической практики. Ни педагогика развития, ни инновационная педагогика из тех, которые сегодня складываются в нашей стране (а я думаю, и в мире) не способны полноценно освоить декларируемый педагогикой философско-антропологический идеал. Этот тезис, из которого я исходил.
— Только перечисленные тобою педагогические практики неспособны это сделать или педагогика как таковая?
В принципе педагогическая практика не способна освоить то содержание этого идеала, которое уже сформировалось.
— Почему же тогда получилось, что философско-антропологический идеал оказался шире педагогики и не вместим в нее, хотя его разрабатывали параллельно с педагогическими запросами, а педагогика оказалась площадкой, на которой он был сформулирован?
Да, он оказался шире и был сформулирован во многом на критике педагогики. Начался поиск новых технологий внутри самой педагогики, и постепенно поиск их начал разрывать материнское тело педагогики. Сегодня в любой ситуации, где начинается серьезное применение инновационных методов, мы просто выходим на границы педагогики и педагогического отношения как такового.
Это многократно обсуждалось, фиксировалось и потому педагогика свободы, в каком-то смысле, — “круглый квадрат”. В тот момент, когда мы выходим на проблематику свободы, — в твоем смысле понятия свободопользования,— мы выходим на границу педагогики, и она не может ответить на возникающие здесь вопросы.
Когда мы обсуждаем эти вопросы с педагогами, я говорю им только одно: “Давайте пытаться!”. И это скорее культурно-политический тезис, чем педагогический.
— И тогда сразу же вопрос про соотношение образовательных практик и культурной политики, о которой мы ранее говорили?
Образовательные технологии автоматически подпадают под культурную политику как ее раздел, наряду с такими другими ее разделами — такими как дизайн, социальное проектирование, работа средств массовой информации (и то, что с ними так или иначе связано, например, паблик рилейшнс, имиджмейкинг), новыми политическими технологиями, правовой инженерией. Это фактически полисфера, которая чуть ли не все ассимилирует, втягивает в себя.
— Хорошо, а тогда какова связь так широко понятой культурной политики с так называемой политикой развития? Если, конечно, это понятие для тебя не только приемлемо, но и имеет рабочий смысл.
Это понятие для меня не очень осмысленно, но одна из ключевых тем, которую я сейчас прорабатываю — это категория развития, ее освоение социально-гуманитарными науками, во-первых, и разными практиками — во-вторых.
— Что же получается, проблема развития ключевая, а понятие политики развития при этом не осмысленно?
Да.
— Тогда что же такое, по-твоему, политика развития — как концепция, как подход? Фигура поверхностной политизации проблематики развития? Или, быть может, схема политической практики, альтернативная культурной политике?
Мне кажется, что пока это только попытка… Скажем, если мы рассмотрим хозяйственную, политическую и образовательную практики, как стремящиеся к взаимной ассимиляции, то можно без особого труда увидеть, что сегодня политическая практика обладает наибольшими возможностями ассимиляции остальных. При этом по отношению к хозяйственной практике такая ассимиляция дала уже целый ряд позитивных эффектов и процессов. Можно сказать, что формирование хозяйства — не как самостоятельной практики, а как предмета политики — привело к очень интересных разворотам, о чем можно отдельно поговорить. Дальше видно то, что принципиально не осваиваемо, то, что может быть освоено только в схемах взаимной ассимиляции.
С другой стороны, политическая практика доминирует сегодня в ущерб образованию и другим антропопрактикам.
— Означает ли это, что существует принципиальный предел политизации, политической ассимиляции каких-то практик, сфер деятельности? Или же при дальнейшем развитии этих политически ассимилируемых практик (и самой политики) возможны иные, более эффективные формы их политизации?
Да, если речь идет именно о культурной политике, как наивысшей на сегодня точке развития политических практик.
Культурно-политическое государство… сможет ассимилировать и управленческое, и предпринимательское государство
Итак, я двигался в русле образования, а потом стал работать с проблематикой хозяйства, экономики, управления и т.п. Первые же попытки заимствовать распространенные в этих практиках оргтехнические представления показали, что они недостаточно развиты как в интеллектуальном, так и в деятельностном отношении. Отсюда мой интерес к проблеме предпринимательства, в понимании которого я во многом следовал за А.Шумпетером. Его представления о предпринимательской деятельности были позитивно переработаны мною в духе схем развития и оргтехнических схем, предполагавших доминирование знаний. И затем следующий шаг — противопоставление позиции предпринимателя позициям управленца и культурного политика. Кажется, близкими этому вещами занимается сейчас С.Чернышев в рамках концепции корпоративного управления.
Управление, как профессиональная МД, во многом возникает в оппозицию к предпринимательству, но с попыткой снять и включить в себя предпринимательский инструментарий, т.е. инструментарий развития (или инновации, являющейся, на мой взгляд, квазиформой развития).
Но дальше оказывается, что политическое пространство не позволяет проделать этого принципиального перехода. То есть в существующих политических рамках переход от деятельности предпринимательской к деятельности управленческой может дать только фашиствующее корпоративное (или коммунистическое) государство, что и было продемонстрировано в ряде стран в начале века. Они попробовали осуществить индустриализацию и освоить инновационную форму деятельности, минуя развитие предпринимательства, сделав все то же самое за счет деятельности управления. Создали управленческие сети, создали корпоративное управленческое государство и… проиграли свою предпринимательскую геополитическую игру.
— И это можно рассматривать как критику корпоративной системы?
Естественно. Однако моя реальная практика гораздо уже, чем вариации моего мышления, поэтому упражняться на этом поле я не могу. И все же я допускаю такой вариант развития событий, при котором культурно-политическое преломление управления позволит проделать этот шаг. Я думаю, культурно-политическое государство будет гораздо эффективнее предыдущих и сможет ассимилировать и управленческое, и предпринимательское государство.
Во многом оно будет другим, не похожим на современные формы государственности. И здесь можно обсуждать, будет ли оно вообще государством, и если будет, то каким.
— Раз уж прозвучал лозунг культурно-политического государства, то в каком отношение оно находится к гражданскому обществу и, что мне особо близко, к гражданскому государству? В частности, может ли культурно-политическое государство быть дооформлено до социального или гражданского государства?
Я думаю, что где-то это очень близкие вещи. Но проблема для меня заключается в том, что я, как уже сказал, интеллектуально продвигаюсь, переходя от одной практики к другой. Я потратил пять лет на то, чтобы в общем проработать все, относящееся к хозяйству и экономике. И только теперь сдвигаюсь к обозначенной твоим вопросом общественно-государственной и философско-правовой проблематике.
Поэтому первый мой ответ уклончивый. Догадываюсь, что то, что я имею в виду под культурно-политическим государством, может оказаться достаточно схожим с концепцией коммуникативного государства и дискурсивной общественности, которые у нас обсуждались со ссылкой на немецкую традицию (в этом смысле очень интересна нашумевшая статья Ю.Хабермаса “Парализованная политика”). Или с латиноамериканской идеологией развития, где в схожем контексте рассматривается связь государства и общества. Но, к сожалению, я с этим словарем очень плохо знаком. И вообще, я стараюсь сначала сам придумать, а потом посмотреть, где что есть.
По моей внутренней линии я двигался от первичного освоения образовательной проблематики и связанных с этим практик воспроизводства и развития — к хозяйственным практикам и экономике. Итогом размышления о предпринимательстве стал большой курс лекций по рынку, первая статья про рынок, которая эту проблематику схватывает, несколько больших курсов по философии хозяйства (самый развернутый я прочел в 1995 г. в Тольятти). Сейчас я готовлю еще более развёрнутый курс, втягивающий философию хозяйства и хозяйственной практики в управленческую и предпринимательскую проблематику.
Этому сопутствует большой цикл размышлений по поводу управления, основывающихся на предложенной мною схеме, являющейся своеобразной интеллектуальной проекцией разных МД позиций, сгруппированных по секторам хозяйства, экономики, управления, государственности и т.д.
Никто не развивает методологический аппарат теории мыследеятельности
— Коль скоро речь идет о новом и, как мне представляется, достаточно радикальном репозиционировании твоего поля МД, у меня возникает вопрос: а как постулируемые тобою аналитически позиции связаны с распространенными в практике институциональными формами деятельности управления (или иных деятельностей)?
Специфика моего подхода такова, что теперь, когда это понимание уже сложилось и достаточно развернуто (хотя я никогда не стремился его высказывать и все время уходил от обсуждения), я смещаюсь в область политики. А для того, чтобы мне туда сместиться, я должен попробовать начать в ней действовать. Поэтому я занялся выборами. Для меня то, что я сейчас делаю, даже хозяйственные проекты,— это, прежде всего, попытка увидеть некие реальные механизмы политики. И лишь затем перейти к осмыслению этой сферы. При этом я все время повторяю, что мои последние проекты — освоенческие.
Первое. Сейчас я активно работаю в ряде регионов над антикризисными программами, над программами среднесрочного развития территорий, над схемами разграничения полномочий “субъекта федерации / федеральный центр”.
Второе. Мы работали недавно с крупным предприятием-банкротом и тему этой работы, которую я заявил и провел, “Снижение ущербов от банкротства крупного предприятия”, я трактую как культуро-политическую тему.
Наконец, я участвовал в выборах мэра г.Красноярска, и сейчас участвую в выборах в Амурской области. И для меня эти занятия вовсе не сводится к электоральной прагматике. Я очень жестко оппонирую своим коллегам: они — имиджмейкеры, делающие выборы, а я не имиджмейкер, я держу рамку (и позицию) культурной политики. Поэтому я поехал в Амурскую область, где с самого начала была полностью проигрышная ситуация (и мы ее таки проиграли), но это дало большой, ни с чем не сравнимый культуро-политический опыт. Мне было очень важно понять, как застраиваются сегодня коды электорального сознания, как из-за этого в практически одинаковых ситуациях получаются разные результаты.
Я и далее буду, еще год-два, продолжать работать в этой сфере, на разных границах ее. Сейчас я веду переговоры насчет рекламного заказа, но трактую его как культурно-политическая деятельность. И в этих рамках мне придется осваивать имеющийся профессиональный арсенал. Иначе мне очень трудно говорить про инструментарий культурной политики и про ее место внутри более широкой сферы деятельности.
А в другой, более узкой, линии разработка культуро-политической проблематики фактически двигалась следующим образом.
Это, в первую очередь, обсуждение проблемы самоопределения, поставленной внутри образовательной линии; последовательное введение несколько моделей самоопределения; выход внутри этого на проблему рамок; достаточно длительное обсуждение понятия “рамки” на границах между программированием, анализом целей, категорий смысла и прокручивание всего этого, к сожалению, пока в аппарате теории деятельности. Потому что нет еще развитого аппарата теории МД, систематически никто её не развивает и мне её очень не хватает, а сам я не успеваю этого делать, сам я двигаюсь слишком экстенсивно.
Это, далее, выход к проблемам онтологии. В 1992-93 гг. я прочел первый цикл лекций о культурной политике, где ключевым становится понятие рамок и онтопраксиса. После этого — проблематика культурных регионов, осмысление культуры, как множества регионов, а региона как культурного образования (в смысле экстерриториального). Создание сектора во Всероссийском институте культурологии и попытки обсуждения там темы “Культура и мышление”. Но в какой-то момент я столкнулся с тем, что дальнейшее развитие этих представлений упирается в то, что у меня для этого не достаточно материала.
И еще несколько фатальных текстов, вроде выступления в 1993 г. на собрании Фонда Сороса “Культурная политика на пути в открытое общество”, которое никто не понял, а меня записали в сумасшедшие.
Должен признаться, что смещение интереса в сторону политических технологий во многом было вызвано осознанием неэвристичности того, что мы ранее называли “культурными проектами” (что обозначено в твоих вопросах как “прямое, личное участие в культурных инициативах”). Осознав это и отказавшись от дальнейшего консультирования в СК, мы с С.Зуевым начали сотрудничество с европейскими центрами подготовки менеджеров в области культуры. Привлекали их специалистов по культурной политике (администраторов, консультантов, преподавателей) для участия в наших региональных школах и семинарах. Рефлексия результатов этой работы снова дала осознание неэвристичности чисто консультационных работ, ибо во многом они сводятся либо к чисто управленческим играм, либо к социальному акушерству, о котором говорил наш любопытный американец на пароходе. Кстати, очень хорошая тема, показывающая ограниченность всей этой проблематики.
— Окидывая внутренним взглядом сказанное тобою сегодня о культурной политике, я замечаю, что мне более понятно то, что относится в ней к культуре, чем то, что к политике. Поэтому еще раз о том понимании политического, из которого ты исходишь.
Да, по поводу политики. Мы хорошо понимаем, что в тот момент, когда начинает формироваться какая-то новая область практической деятельности, все понятия, привлекаемые из прошлого и со стороны для ее осмысления, должны переопределяться. Ведь понятие культуры во всех четырех вышеназванных смыслах культурной политики разное, и понятие политики тоже, по-видимому, разное. Я не готов сейчас дать подробную развертку понятия политики, но чувствую, что мы о политике говорим в разных смыслах. Так что приходится пока пользоваться старым понятием Г.П., согласно которому политика есть рефлексивно-коммуникативная надстройка, возникающая в условиях невозможности управления. Приходится признать, что проблематика взаимоотношений политики и управления, политики и власти в методологии пока еще не достаточно проработана.
— И последний вопрос чисто методологического свойства: ты по-прежнему считаешь, что схематизм воспроизводства деятельности, трансляции и реализации культуры — базовый для методолога и что он, в свете твоих же культурно-политических изысканий, не нуждается в переосмыслении и переопределении?
Я пользуюсь этим стандартным схематизмом, хотя я внимательно в свое время читал вашу с Г.П. дискуссию по научно-технической политике 1969 г., где ты выстраивал возражения против упрощенного понимания взаимоотношений воспроизводства, трансляции и реализации. Но, честно говоря, никаких сверхпринципиальных выводов для себя из этого не сделал.
А вот что касается проблематики исследования культуры внутри линии культур-политических разработок, то я вижу ее, по-моему, достаточно хорошо. Тут для меня важны, как минимум, три основных контура размышлений.
Первый контур задается двумя традиционными представлениями: культуры и природы, с одной стороны, и культуры и цивилизации — с другой. Я считаю его исторически сложившимся уже в греко-римский период и полагаю что его содержательное ядро, продолжая транслироваться сквозь всю европейскую историю, сохраняется по сей день.
Второй контур задан, по меньшей мере, четырьмя трактовками культуры, которые также можно выразить, прибегая к оппозициями: этотелеологическая/каузальная,интегративная /дифференцирующая,коллективистская/индивидуалистическаяи,наконец,массовизирующая/квалифицирующая трактовки. Разумеется, в каждом конкретном случае они могут присутствовать в смешанном виде.
И, наконец, поверх того, что относится к первым двум контурам, проступает самая важная, на мой взгляд, проблема, о которой я уже упоминал, а именно, соотношение функциональной и морфологической трактовок культурных феноменов. С одной стороны, культура понимается как чистая функция (аналитически привязываемая к проблеме нормы), с другой — имеет место чисто формологическая трактовка культуры, выражающаяся в элементарном перечне языковых, бытовых, трудовых и прочих практик, когда все без исключений становится культурой.
На мой взгляд, все вопросы, связанные с перечисленными альтернативами, были поставлены и, так или иначе, отвечены уже в начале ХХ в. в связи с критикой тейлоровского описания культур. Возникший из этой критики структурно-функциональный подход к описанию и пониманию культуры и общества радикально сфокусирован на проблеме функциональности. Но этому подходу, как и другим гуманитарным наукам, не хватает логики и методологии описания “функциональных вещей”.
— Поскольку на сцене нашего диалога замаячили социологи, мой следующий вопрос будет о форме их привлечения в культурно-политические изыскания.
Через понятие социокультурных реализаций. Если мы зафиксируем пространство МД и отображение в нем социального пространства и культуры, то сможем рассматривать МД и культурные реализации в социальном пространстве, ввести такое представление о социокультурной сфере, где “культурное” и “социальное» интегрировались бы между собой через МД процессы. И сюда приглашать социологов и привлекать социологическое знание для создания больших массивов описаний таких социокультурных стяжек.
— При условии, что эти социокультурные стяжки происходят через МД?
Да, и здесь мы вновь возвращаемся к тому философско-антропологическому пониманию, которое у меня сложилось благодаря движению по выготскианской линии и которое в моей мысли предшествует социально-культурной проблематике.
Я вырос в архиве ММК
— Коль скоро речь идет о новом и, как мне представляется, достаточно радикальном репозиционировании твоего поля МД, у меня возникает вопрос: а как постулируемые тобою аналитически позиции связаны с распространенными в практике институциональными формами деятельности управления (или иных деятельностей)?
Специфика моего подхода такова, что теперь, когда это понимание уже сложилось и достаточно развернуто (хотя я никогда не стремился его высказывать и все время уходил от обсуждения), я смещаюсь в область политики. А для того, чтобы мне туда сместиться, я должен попробовать начать в ней действовать. Поэтому я занялся выборами. Для меня то, что я сейчас делаю, даже хозяйственные проекты,— это, прежде всего, попытка увидеть некие реальные механизмы политики. И лишь затем перейти к осмыслению этой сферы. При этом я все время повторяю, что мои последние проекты — освоенческие.
Первое. Сейчас я активно работаю в ряде регионов над антикризисными программами, над программами среднесрочного развития территорий, над схемами разграничения полномочий “субъекта федерации / федеральный центр”.
Второе. Мы работали недавно с крупным предприятием-банкротом и тему этой работы, которую я заявил и провел, “Снижение ущербов от банкротства крупного предприятия”, я трактую как культуро-политическую тему.
Наконец, я участвовал в выборах мэра г.Красноярска, и сейчас участвую в выборах в Амурской области. И для меня эти занятия вовсе не сводится к электоральной прагматике. Я очень жестко оппонирую своим коллегам: они — имиджмейкеры, делающие выборы, а я не имиджмейкер, я держу рамку (и позицию) культурной политики. Поэтому я поехал в Амурскую область, где с самого начала была полностью проигрышная ситуация (и мы ее таки проиграли), но это дало большой, ни с чем не сравнимый культуро-политический опыт. Мне было очень важно понять, как застраиваются сегодня коды электорального сознания, как из-за этого в практически одинаковых ситуациях получаются разные результаты.
Я и далее буду, еще год-два, продолжать работать в этой сфере, на разных границах ее. Сейчас я веду переговоры насчет рекламного заказа, но трактую его как культурно-политическая деятельность. И в этих рамках мне придется осваивать имеющийся профессиональный арсенал. Иначе мне очень трудно говорить про инструментарий культурной политики и про ее место внутри более широкой сферы деятельности.
А в другой, более узкой, линии разработка культуро-политической проблематики фактически двигалась следующим образом.
Это, в первую очередь, обсуждение проблемы самоопределения, поставленной внутри образовательной линии; последовательное введение несколько моделей самоопределения; выход внутри этого на проблему рамок; достаточно длительное обсуждение понятия “рамки” на границах между программированием, анализом целей, категорий смысла и прокручивание всего этого, к сожалению, пока в аппарате теории деятельности. Потому что нет еще развитого аппарата теории МД, систематически никто её не развивает и мне её очень не хватает, а сам я не успеваю этого делать, сам я двигаюсь слишком экстенсивно.
Это, далее, выход к проблемам онтологии. В 1992-93 гг. я прочел первый цикл лекций о культурной политике, где ключевым становится понятие рамок и онтопраксиса. После этого — проблематика культурных регионов, осмысление культуры, как множества регионов, а региона как культурного образования (в смысле экстерриториального). Создание сектора во Всероссийском институте культурологии и попытки обсуждения там темы “Культура и мышление”. Но в какой-то момент я столкнулся с тем, что дальнейшее развитие этих представлений упирается в то, что у меня для этого не достаточно материала.
И еще несколько фатальных текстов, вроде выступления в 1993 г. на собрании Фонда Сороса “Культурная политика на пути в открытое общество”, которое никто не понял, а меня записали в сумасшедшие.
Должен признаться, что смещение интереса в сторону политических технологий во многом было вызвано осознанием неэвристичности того, что мы ранее называли “культурными проектами” (что обозначено в твоих вопросах как “прямое, личное участие в культурных инициативах”). Осознав это и отказавшись от дальнейшего консультирования в СК, мы с С.Зуевым начали сотрудничество с европейскими центрами подготовки менеджеров в области культуры. Привлекали их специалистов по культурной политике (администраторов, консультантов, преподавателей) для участия в наших региональных школах и семинарах. Рефлексия результатов этой работы снова дала осознание неэвристичности чисто консультационных работ, ибо во многом они сводятся либо к чисто управленческим играм, либо к социальному акушерству, о котором говорил наш любопытный американец на пароходе. Кстати, очень хорошая тема, показывающая ограниченность всей этой проблематики.
— Окидывая внутренним взглядом сказанное тобою сегодня о культурной политике, я замечаю, что мне более понятно то, что относится в ней к культуре, чем то, что к политике. Поэтому еще раз о том понимании политического, из которого ты исходишь.
Да, по поводу политики. Мы хорошо понимаем, что в тот момент, когда начинает формироваться какая-то новая область практической деятельности, все понятия, привлекаемые из прошлого и со стороны для ее осмысления, должны переопределяться. Ведь понятие культуры во всех четырех вышеназванных смыслах культурной политики разное, и понятие политики тоже, по-видимому, разное. Я не готов сейчас дать подробную развертку понятия политики, но чувствую, что мы о политике говорим в разных смыслах. Так что приходится пока пользоваться старым понятием Г.П., согласно которому политика есть рефлексивно-коммуникативная надстройка, возникающая в условиях невозможности управления. Приходится признать, что проблематика взаимоотношений политики и управления, политики и власти в методологии пока еще не достаточно проработана.
— И последний вопрос чисто методологического свойства: ты по-прежнему считаешь, что схематизм воспроизводства деятельности, трансляции и реализации культуры — базовый для методолога и что он, в свете твоих же культурно-политических изысканий, не нуждается в переосмыслении и переопределении?
Я пользуюсь этим стандартным схематизмом, хотя я внимательно в свое время читал вашу с Г.П. дискуссию по научно-технической политике 1969 г., где ты выстраивал возражения против упрощенного понимания взаимоотношений воспроизводства, трансляции и реализации. Но, честно говоря, никаких сверхпринципиальных выводов для себя из этого не сделал.
А вот что касается проблематики исследования культуры внутри линии культур-политических разработок, то я вижу ее, по-моему, достаточно хорошо. Тут для меня важны, как минимум, три основных контура размышлений.
Первый контур задается двумя традиционными представлениями: культуры и природы, с одной стороны, и культуры и цивилизации — с другой. Я считаю его исторически сложившимся уже в греко-римский период и полагаю что его содержательное ядро, продолжая транслироваться сквозь всю европейскую историю, сохраняется по сей день. Второй контур задан, по меньшей мере, четырьмя трактовками культуры, которые также можно выразить, прибегая к оппозициями: этотелеологическая/каузальная,интегративная /дифференцирующая,коллективистская/индивидуалистическая и, наконец, массовизирующая/квалифицирующая трактовки.
Разумеется, в каждом конкретном случае они могут присутствовать в смешанном виде.
И, наконец, поверх того, что относится к первым двум контурам, проступает самая важная, на мой взгляд, проблема, о которой я уже упоминал, а именно, соотношение функциональной и морфологической трактовок культурных феноменов. С одной стороны, культура понимается как чистая функция (аналитически привязываемая к проблеме нормы), с другой — имеет место чисто формологическая трактовка культуры, выражающаяся в элементарном перечне языковых, бытовых, трудовых и прочих практик, когда все без исключений становится культурой.
На мой взгляд, все вопросы, связанные с перечисленными альтернативами, были поставлены и, так или иначе, отвечены уже в начале ХХ в. в связи с критикой тейлоровского описания культур. Возникший из этой критики структурно-функциональный подход к описанию и пониманию культуры и общества радикально сфокусирован на проблеме функциональности. Но этому подходу, как и другим гуманитарным наукам, не хватает логики и методологии описания “функциональных вещей”.
— Поскольку на сцене нашего диалога замаячили социологи, мой следующий вопрос будет о форме их привлечения в культурно-политические изыскания.
Через понятие социокультурных реализаций. Если мы зафиксируем пространство МД и отображение в нем социального пространства и культуры, то сможем рассматривать МД и культурные реализации в социальном пространстве, ввести такое представление о социокультурной сфере, где “культурное” и “социальное» интегрировались бы между собой через МД процессы. И сюда приглашать социологов и привлекать социологическое знание для создания больших массивов описаний таких социокультурных стяжек.
— При условии, что эти социокультурные стяжки происходят через МД?
Да, и здесь мы вновь возвращаемся к тому философско-антропологическому пониманию, которое у меня сложилось благодаря движению по выготскианской линии и которое в моей мысли предшествует социально-культурной проблематике.
— На Чтениях памяти Г.П.Щедровицкого 1996 г. я оппонировал А.Тюкову, заявившему в качестве главной тему институционализации методологии, и попытался развернуть вопрос о различных фигурах идентичности методолога. Если тебе не чуждо это различение, то каково твое понимание институциональных перспектив методологии и в чем состоит твоя собственная фигура методологической идентичности?
Я без сомнения считаю это чрезвычайно важным вопросом, причем не только в социокультурном, но и в историческом поле вопросом, требующим спокойного, длительного описательного и исследовательского отношения.
К сожалению, из первого набора Школы культурной политики мне не удалось выпустить ни одного исследователя, который занялся бы историей и современным состоянием методологии, в частности, процессами ее институционализации и профессионализации. Единственный, кто по складу ума мог бы им стать, это Е.Никулин. Но в силу жизненных обстоятельств он занялся проектированием образовательных процессов (что, в общем-то, не совсем его стезя).
Так что в настоящее время работа в этом направлении ведётся по двум линиям: это издательская деятельность (два тома трудов Г.П.Щедровицкого, состоящий из его неопубликованных работ номер <Вопросов методологии) и создание компьютерного архива ММК. Замечу кстати, что в ближайшее время в Архив будут попадать только авторизованные самим Г.П.Щедровицким тексты.
Что касается моей методологической идентичности, то должен сказать, что я вырос в архиве ММК. И мое отличие от многих других методологов заключается в том, что я достаточно много читал материалы Архива, причем целенаправленно читал именно тексты дискуссий, а не законченные в той или иной мере работы. До сих пор я, можно сказать, ни одного текста Г.П.Щедровицкого всерьез не прочитал. А прорабатывал я, в основном, его высказывания в дискуссиях и только в связи с ними некоторые его тексты.
Думаю, именно поэтому у меня сформировалась достаточно терпимое политопическое представление о методологическом движении и его содержании.
Следующая особенность моей позиции состоит в том, что я пытаюсь, где и как могу, использовать ресурсы методологического движения. Я считаю, что это именно ресурс и что, при всех многочисленных отклонениях, вплоть до клинических, которые наблюдаются в среде методологов, с этим ресурсом можно и нужно работать.
— И в чем же состоит стратегия твоей работы с доступными тебе методологическими ресурсами?
Теперь я работаю с ними в основном регионально.
Мне давно стало ясно, что проводившиеся в Москве Методологические съезды постепенно переставали быть всероссийскими и отчетливо становились региональными. Наблюдая за тем, что происходит с теми методологическими группами, с которыми я работал и работаю в регионах, я замечаю как они, пусть медленно и наивно, но самоопределяются-таки в новых социокультурных и политических условиях.
Я вижу, как минимум, три направления регионализации методологической работы.
Первое и самое массовое — канализация методологических усилий в сторону тех или иных образовательных институтов, вплоть до создания собственных структур (вроде Академии бизнеса и банковского дела в г.Тольятти). Условно говоря, до трети участников методологического движения — в его низовом слое — сегодня работают в сфере образования. Появление в школах ставок методолога — не единичный случай, а повсеместное явление.
— Ставка школьного методолога? Откровенно говоря, для меня это новость!
Да, не говоря уже о показательных случаях (вроде Д.Иванова, работающего штатным методологом Школы самоопределения в Москве), так работают десятки людей за пределами Московской кольцевой дороги. Между прочим, в ряде школ можно увидеть на дверях таблички “Лаборатория методологии” или “Сектор методологии”.
Здесь, правда, надо заметить, что многие школы в связи с давлением рыночной экономики фактически превратились в более универсальные по своим задачам образовательные центры, обслуживающие систему дистантного образования или систему повышения квалификации. В таких центрах появление методологических служб и функций не вызывает сомнения.
Вторая, меньшая по составу, группа методологов (включая выпускников ШКП), ушла в бизнес-консультирование, или в сам бизнес, но бизнес рефлексивный. Это не торговля, конечно, а обслуживание финансовой деятельности, освоение и создание новых финансовых инструментов (для нужд той же самой торговли или, например, городского развития). Что касается деятельности консультирования, я ее считаю очень перспективной.
— Эвристически это понятно, поскольку на рынках интеллектуального труда на этот вид деятельности есть спрос. Но только ли?
Нет, и я могу объяснить, почему я так считаю.
Что такое консультирование? Это работа с трассами знаний, обслуживающих управление. Если уж мы заявили в свое время, что управление — это, прежде всего, работа с системами знания, и дали ее эпистемологический портрет, то стоит продолжить эту линию, сказав, что консультант — это тот, кто превращает знание и трассы его движения относительно управления в предмет своей деятельности. В самом простом случае консультант просто переносит знания из одной ситуации в другую.
Чем занято, по сути, огромное число консультантов (и на Западе, и у нас в России)? Они оформляет знания о средствах, прецедентах или ситуациях управления и переносят их из одних сфер деятельности в другие. Таким путем консультанты становятся носителями и распорядителями достаточно сложных знаний, специалистами, работающими в рамках высоких типов управленческой деятельности, таких, как стратегическое планирование, программирование, сценирование и пр.
Поэтому в любой социокультурной сфере, где есть спрос на управление (а потому и на консультационные услуги), важно знать, каким образом консультирование, в качестве социального института и типа деятельности, может быть вписано в институты и типы деятельности, присущие данной сфере.
— Однако обычно считается, что знание первично производится в сфере науки, а распространяется в сфере образования. Ты утверждаешь, что консультирование берет на себя какую-то часть функций образования?
Да, этот процесс начал отчетливо наблюдаться на Западе (прежде всего, в США) сразу после Второй мировой войны. Там весь фронт опытного консультирования развернулся в сторону образования, и возникла сфера обучающего консультирования. Консультанты стали дублировать профессоров, компенсируя недостатки образовательной системы
И сегодня большинство западных консультантов фактически учат, тренируют, а не помогают в принятии решений.
Обратившись к ситуации с управленческим консультированием в нашей стране, я должен сказать, что этот ход (от практического консультированию к обучающему) здесь не пройдет. У нас в целом другая институциональная ситуация: считается, что у нас консультанту легче прижиться в существующих уже образовательных заведениях, промышляя там работой по повышению квалификации и получая за это свои маленькие деньги.
Однако консультанты, попавшие было сюда из сферы повышения квалификации, переподготовки и второго образования энергично вытесняются консультирующими вузовскими профессорами и сотрудниками научно-исследовательских институтов, восстанавливающими здесь свои старые позиции.
На сегодня приходится признать, что большинство из тех, кто получили первичную методологическую подготовку, работать в качестве практических консультантов просто не могут. Их спросят, например, санировали они хоть один завод, и вопрос будет закрыт. А обучать они не могут еще и потому, что как социальный институт повышения квалификации сегодня сильнее, чем любые методологические акции.
Но все-таки методологическая линия и перспектива в консультировании есть. И десяток-другой людей, получивших методологическое образование и накопивших опыт практического консультирования в разных областях управленческой работы, постепенно сформируют собственно методологический формат этого типа деятельности и станут признанными специалистами. В этом смысле я могу сослаться на пример Т.Сергейцева, который одновременно работает и как консультант, и как проектировщик-менеджер, или О.Алексеева, имеющего уже большой опыт муниципального консалтинга.
Наконец, есть еще малочисленная группа методологов, ведущих собственно исследовательскую работу. Их и в столицах буквально единицы, а на региональном уровне и того меньше, там таких людей удержать не удается. Но и тут, и там небольшие группы могут позволить себе (или поручить кому-то) поддерживать разного рода исследовательские программы. По идее, надо было бы (и, быть может, в этом смысл следующего Методологического конгресса) опубликовать исследовательскую программу, включающую, кроме обзора методологического движения, перечень исследовательских проблем. Таким образом, мы могли бы повлиять на конституирование этого третьего сектора методологического движения.
— Вопрос об исследовательской программе, намечающей наиболее перспективные направления развития методологического дела, время от времени возбуждается кем-то из причастных к нему, но тут же повисает в воздухе. И даже если, как случалось на Методологических конгрессах, какие-то достаточно интересные проблемы предлагались к разработке, никакого встречного движения со стороны коллег-методологов в направлении их обсуждения что-то не наблюдается.
Да, я тоже не вижу людей, готовых и способных заняться такой работой. Хотя и считаю важной подготовку большого числа работ по различным методологическим парадигмам. В свое время ориентировал на это Е.Никулина, С.Табачникову и целый ряд других людей. Но пока мы не имеем ничего.
Более того, я сейчас веду переговоры с П.Бурдье о том, чтобы он написал предисловие к сборнику работ Г.П.Щедровицкого по социологии и культурологии. Он не знает русского языка, но есть посредник, который готов ему переводить. Бурдье отказался писать, так как ему, как он сказал, это сложно. Но хотелось бы найти для начала человека из “крупника”, который бы мог это сделать. А затем уже можно было бы начать набор компаративных работ, например, “Г.Щедровицкий и Ю.Хабермас” или “Г.Щедровицкий и П.Бурдье”.
— Это был бы очень высокий уровень сопоставлений, а есть более низкий и, по-моему, более доступный, — это сопоставление по отдельным методологическим конструкциям. Например, многоплоскостное строение знание у Г.П.Щедровицкого, с одной стороны, и поверхности/серии Ж. Делеза — с другой.
Я в свое время написал несколько компаративных работ по Выготскому: “Л.Выготский и З.Фрейд”, “Л.Выготский и И.Ильин”, но они остались не опубликованными. Более того, я их никому не показываю, потому что они, как мне теперь кажется, очень слабые. И уже тогда мне было ясно, насколько это сложно.
Возвращаюсь к твоему вопросу. Мне пока не удалось найти кого-то, кто мог бы написать что-либо осмысленное о сравнении хотя бы одного понятия или конструкции (я мучил по этому поводу В.Подорогу и целый ряд других людей). А то, что можно было бы сделать на уровне слабо артикулированной герменевтической техники, где можно соотносить все что угодно и узнавать все что угодно, мне не интересно. Нужна хотя бы одна работа по поводу какого-либо конструкта, какой-либо системы размышлений, которая убедительно показала параллельность или близость сравниваемых вещей.
— Может быть, все дело в том, что привычные формы соорганизации усилий методологов (семинары, игры и т.д.) не способствовали приобретения навыков к полноценному интеллектуальному сотрудничеству (и между собой, и, что еще очевидней, с представителями других профессионализмов)? Как в этой связи ты относишься к возможностям сетевой самоорганизации методологической активности?
Я всецело тебя поддерживаю по поводу желательности развития методологических сетей, по поводу новых, более развитых форм кооперации методологов (между собой и с представителями других профессиональных позиций), но мой опыт показывает, что происходит это очень тяжело и медленно.
И в этом смысле наши с тобой многолетние отношения, быть может, единственный пример, притом не кооперации, а терпимого параллельного движения с взаимной подпиткой. Все мои попытки вступить в кооперацию с людьми моего поколения привели к страшной ревности и уходу из ситуации предложенного сотрудничества. Почему? Понять я этого не могу, могу только догадываться.
Что касается уровня региональных методологических групп, то в отношениях с ними складывается что-то вроде дистантного сотрудничества. При всей ее разношерстности, например, калининградской группы, и массе проблем в общении с нею, они, в общем-то, признают меня в качестве организационного и идейного лидера. И то же самое для ряда других региональных групп.
Я смотрю на это как на естественный процесс. У меня в планах добраться до Екатеринбурга, до Иркутска и более плотно работать с Питером, где уже есть, как минимум, три методологические группы, не связанные пока между собой.
— Недавно я обратился к Л.П.Щедровицкому за помощью в создании собственного рабочего электронного архива и, может быть, специального рабочего стола для него. Я хотел бы иметь такую возможность работы с собственными текстами и телекоммуникации с коллегами, чтобы метаязыком этой операционной системы был методологический язык. Или, во всяком случае, язык методологически интерпретируемый. В надежде, что есть всегда такой человек, которому это будет интересно.
Я думаю, что здесь будет две группы продуктов.
Первый, условно говоря, это учебный продукт, ориентированный на учащихся и на тех, кто осваивает методологические ресурсы. Этот продукт может быть достаточно стандартизованным, но его стандартизация, на мой взгляд, является функцией лидера какого-то методологического сообщества. Продвижение в этом направлении будет происходить достаточно медленно и не без понятных трудностей. И это придется обсуждать долго и подробно.
Второй продукт — это индивидуально-ориентированный архивный комплекс. На самом деле мне нужен свой архив, архив, созданный другими, мне не нужен. И он у меня есть, хотя страшно не организованный и в этом он ничем не отличается от стеллажа Г.П. (или моего), потому что только я знаю, где там что хранится. В нем с трудом систематизируется и даже ассимилируется даже тот материал, который уже хорошо организован, не говоря уже о кусках других архивов. И я не знаю, что с этим делать. Может быть, мы уже умрем, а еще не будет никаких суперсистем, которые позволили бы такие вещи делать. Вот у меня есть портативный 586 компьютер, там у меня фактически все мои тексты, я в них как-то ориентируюсь, правда, иногда трачу часы, чтобы найти какой-то файл, но в принципе я в них ориентируюсь. А параллельно происходит то, что у меня происходило в библиотеке: вытащив один файл, я по дороге читал другой и удивлялся.
То, что будет происходить с одинаково методологически организованным архивом, о котором ты говоришь, мне трудно себе представить. Кстати, то же самое и с консультантами. Я думаю, те, кто будет заниматься реальным консультированием, будут создавать под себя индивидуализированные экспертно-консультационные системы, подогнанные под специфику их авторизованной практической деятельности.
Конечно, вполне можно было бы сделать некую компьютерную методологическую сеть, телеконференции и т.д. На самом деле, здесь нужен какой-то моторный молодой парень, который начнет создавать эту новую для нас среду.
Что касается архива Г.П.Щедровицкого в его нынешнем состоянии, то я больше всего заинтересован в том, чтобы параллельно готовились к изданию следующие тома по разным темам и направлениям. Кажется, Г.А.Давыдова подготовила том по языкознанию, а Л.П.Щедровицкий — тома по антропологии и психологии. Но я-то думаю, что если у таких томов не будет, условно говоря, авторов, то мы будем ждать их выхода еще сто лет. По идее, может быть, стоит разбить весь авторизованный материал на блоки, предложить котировку для выпускающих редакторов тома, а к предварительной работе подключать кого-то из вторых людей. Ну, а дальше… садиться самому и становиться главным редактором.
— Это — дела архивные. А если вновь вернуться к возможной исследовательской программе: какие проблемы ты назвал бы в первоочередными?
В первую очередь — исследование самого ММК. Я считаю, что нам просто необходимо издать маленькую книжку под названием “Московский методологический кружок”. В частности потому, что, по моему мнению, единственно доступный вход для западного читателя в проблематику ММК — это вход через его социально-культурную форму. Грубо говоря, все знают, что такое Римский клуб, но мало кто читал, что они там делают. То же самое и здесь. Нам, может быть, и не так нужно, чтобы они читали наши тексты, но они же не знают, что такое ММК. Поэтому необходимо описание тех социально-культурных форм, в которых возник ММК и развивалась его деятельность; описание, выдержанное в очень точных тонах, чтобы не происходило синонимизация его облика ни с шестидесятниками, ни с диссидентами, ни с кем-то еще. Это одна из главных проблем.
Я много раз обращался к разным людям, писались какие-то планы, но пока, увы, этого нет, как нет. Такое издание про ММК должно быть упреждающим введением в предмет, должно быть оснащено хорошим аппаратом (фотографиями, списками участников, важнейших конференций и симпозиумов, разветвленной библиографией и т.п. вещами), оно должно выйти в свет до того, как мы переведем и издадим работы сами работы Г.П.. В противном случае он будет воспринят неадекватно — как структуралист или еще черти кто.
— А что будет с Методологическим конгрессом? Он похоронен окончательно?
Нет, но для этого нужна новая оргформа коммуникации, кооперации и взаимодействия. Я считаю, что она должна быть скорее публично-демонстрационной, чем докладно-академической. Я сейчас думаю над тем, чтобы провести в разных регионах несколько разных Методологических съездов. Но для этого надо туда приехать с развернутой исследовательской программой. Я чувствую, что ни я, ни многие другие к этому еще не готовы. А раз так, то зачем кого-то собирать? Ну, приедут, посмотрят и скажут: «А из-за чего весь сыр-бор?»
Давай делать это осенью или весной следующего года, выводя в публичное пространство несколько таких географических и проблемно-тематических точек.