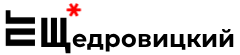Петр Щедровицкий
Институциональные механизмы регионального развития
Алексеев О.Б., Щедровицкий П.Г., Шейман Д.И. Институциональные механизмы регионального развития//Казанский федералист. 2002. № 3. С. 9-12.(37-47)
I
В последнее время с различных этажей власти — как с уровня Федерального Правительства, так и от некоторых руководителей субъектов федерации — приходится слышать определенный скептицизм относительно возможностей и необходимости государственной региональной политики в России. Существует распространенное мнение, что рыночно ориентированной России региональная политика не нужна, как не нужны на государственном уровне и специальные институты, отвечающие за разработку и реализацию этой политики. Считается, что территории должны самостоятельно решать проблемы своего развития. А у государства есть другие заботы и приоритеты, требующие организационной и финансовой поддержки: например, развитие рыночных инфраструктур и крупного бизнеса или выполнение социальных обязательств перед населением.
Губернаторы тоже особенно не настаивают на появлении артикулированной региональной политики государства, не без оснований полагая, что это ограничит их свободу в использовании бюджетных средств. Инвестиций советского масштаба уже не дождешься, поэтому важнее сохранить политическую независимость от Центра и, одновременно, постараться увеличить свою долю в распределяемых федерацией трансфертах. Кроме того, появляется повод для давления на Федеральное Правительство: налоговые сборы с территорий возросли, а эффективного возврата в регионы хотя бы части централизованных средств не обеспечивается. В этих условиях неблагополучное состояние отдельных регионов может быть списано на ошибки Центра, а общественная легитимность самой централизации ресурсов поставлена под сомнение.
Следует признать, что Федеральное Правительство в настоящий момент не только не считает региональную политику своим приоритетом, но и не имеет эффективных средств управления развитием территорий. При отсутствии необходимой институциональной инфраструктуры, кадров и финансовых ресурсов проблемы территорий становятся все большей обузой для госу-
дарства. Спорадические региональные инвестиции и кое-как финансируемые федеральные целевые программы действительно демонстрируют свою неспособность повысить уровень развитости территорий и одновременно создают многочисленные поводы для деструктивной конкуренции территорий. Последняя выражается в том, что одни и те же субъекты федерации, с одной стороны, требуют увеличения объема федеральных трансфертов, демонстрируя с этой целью бедственное по сравнению с другими территориями положение, а с другой — заявляют потенциальным инвесторам о своей особой инвестиционной привлекательности. У этой парадоксальной конкуренции есть объективные причины (история взаимоотношений между территориями советского периода, очевидное отсутствие их экономической самодостаточности, структурные изменения в экономике и т.д.), но нет ни одного исчисляемого позитивного результата. Полученные тем или иным образом региональные преференции не дают качественного улучшения ситуации на конкретной территории. Заметим при этом, что многие участники и организаторы самой системы торгов за бюджетные и инвестиционные ресурсы и преференции вполне довольны и готовы воспроизводить существующие отношения снова и снова.
Расформирование в октябре 2001 года Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики и передача его функций ряду других министерств только укрепило позиции скептиков, которые расценили данный шаг как демонстрацию того, что региональная политика для нынешней власти не является ценностью. В контексте же стародавнего конфликта между так называемыми «отраслевиками» и «территориальщиками» это действие рассматривается как очередная победа «отраслевиков» (теперь уже во главе с Минэкономразвития).
II
Отсутствие четкой позиции государства по вопросам регионального развития приводит к тому, что вновь оживает утопичное представление о возможности возложить эту функцию на так называемую «невидимую руку рынка». Мол, рыночные силы естественным образом отрегулируют ход региональных процессов.
Мировой опыт, в свою очередь, убедительно показывает совершенно обратное: рыночные отношения в их чистом виде способны только порождать и углублять региональные проблемы. Со второй половины 20-го века диспропорции рыночного развития приобретают характер территориальных диспропорций. Объективные различия в стартовых условиях для ряда территорий в рыночной ситуации способны приводить к такому уровню неравенства, который не может быть по политическим, социальным, экономическим, культурным, этническим и другим соображениям приемлем для современного государства. Следовательно, пока есть рынок — должна быть и региональная политика компенсирующего характера.
Понятно, что диспропорции в экономическом развитии территорий существовали и будут существовать всегда. Но если в какой-то момент они выходят из-под контроля, это означает, что региональная политика дала сбой и требуется пересмотр ее приоритетов и средств реализации. По этой причине поиск эффективных региональных моделей является одним из ключевых вопросов развития государственных институтов во всем мире. Компенсирующая региональная политика не должна превращаться в политику тотального выравнивания, отбивающую у территорий-лидеров стимул к развитию и, одновременно, создающую иллюзию спокойствия у отстающих.
III
Границы между некоторыми российскими территориями — субъектами федерации можно увидеть из космоса: на этих границах затухает всякая хозяйственная жизнь, дороги внезапно кончаются либо неожиданно меняют свое направление. Складывается впечатление, что объединить всё это фрагментированное пространство по каким-то разумным принципам просто невозможно. Объединению мешает и сложившаяся в последнее десятилетие психология конкуренции между регионами, и отсутствие механизмов интеграции и координации деятельности различных ветвей и уровней государственной власти, и неопределенность самого механизма выработки и реализации приоритетов региональной политики.
Однако целые куски этого фрагментированного пространства (в первую очередь, сырьевые регионы) начинают втягиваться в мировые процессы регионализации. В условиях геоэкономической конкуренции между четырьмя центрами силы (США, ЕС, ЮВА и формирующимся Исламским миром) ресурсы России по целому ряду позиций представляют серьезный интерес как сейчас, так и в более далекой — стратегической — перспективе. Однако контроль со стороны государства над ключевыми ресурсами своей территории практически утерян, и поэтому фактически все центры регионального управления оказываются за пределами территории России. В настоящее время Россия не имеет ни одного хозяйственного кластера, в отношении которого существовала бы осмысленная государственная политика и управление.
Прагматично настроенные политики хорошо понимают, что реальные вопросы использования территорий уже достаточно давно решаются не их администрациями, а руководителями крупных корпораций, контролирующих ключевые ресурсы этих территорий. Формальная принадлежность этих ресурсов к конкретной административной границе уже не имеет большого значения. Крупный капитал достаточно свободен в том, чтобы, минуя административные барьеры, реализовывать собственные интересы в конкретных частях территории и не заниматься остальными проблемами. Региональные власти все больше становятся держателями «граничного» периметра, в то время как основные «точки развития» внутри этого периметра контролируются корпорациями. Прежний инструментарий региональных властей, с по-
мощью которого сохранялась управляемость и целостность территорий, фактически не работает. Попытки властей осуществить административное «утрамбовывание» корпораций приводят к тому, что экономическая активность вместе с деньгами уходит с территории. В свою очередь, при наличии агрессивной региональной политики со стороны крупных компаний деятельность региональных и муниципальных органов власти подавляется или лишается необходимой самостоятельности. Если на территории присутствует несколько корпораций, они просто делят ее на зоны своего влияния.
IV
Ряд российских правительственных чиновников, признавая серьезность предъявленных России геоэкономических вызовов и опасность дальнейшей фрагментации пространства страны, видят единственное решение проблемы в усилении крупного российского бизнеса. Считается, что крупный национальный капитал, защищая собственные региональные интересы и повышая свою конкурентоспособность на мировых рынках, автоматически «сыграет» и на интересы страны в целом. Во многом эта позиция становится оправданием постепенно происходящего слияния (или подмены) государственновластных стратегий корпоративными. Сделав ставку исключительно на крупный бизнес, государство уже не может пойти на реальное усиление требований к нему (по соблюдению налоговой дисциплины, выполнению социальных обязательств перед работниками и территориями дислокации, инвестированию в природоохранные мероприятия и физические инфраструктуры и т.д.), поскольку это неминуемо приводит к снижению международной конкурентоспособности этого бизнеса.
В то же время следует признать, что сам крупный бизнес продолжает реализовывать стратегии приватизационного этапа, основы которых были заложены в 1992 году — почти десять лет назад. Поделив все предприятия, крупный капитал постепенно поделит и все российские территории. При этом маловероятно, что его пустят в какие-то новые зоны в масштабе мирового хозяйства. Опираясь на экспортно-сырьевые стратегии и укрепив свой российский «тыл», российские корпорации смогут сохранить позиции на рынке газа, алюминия и никеля, может быть, нефтяном и нескольких других рынках, но не завоюют новых рыночных ниш.
Поддерживая приватизационные стратегии корпораций, государство пока демонстрирует неспособность ответить на вопрос о том, что будет через 1015 лет, какие стратегии бизнеса должны прийти на смену приватизационным, во что имеет смысл вкладывать ресурсы уже сейчас.
V
Мировая практика показывает, что современная региональная политика все больше становится средством реализации геоэкономических интересов конкретных государств и наднациональных образований. Новое — геоэкономическое — измерение процессов регионального развития полностью пере-
конфигурирует его институциональную структуру, меняет представления о приоритетах развития, об отношении между внутренней и внешней политикой, приводит к созданию нового инструментария.
Признание геоэкономических реальностей до сих пор остается серьезной проблемой большинства российских разработчиков региональных программ. Продолжая мыслить региональную политику как исключительно внутристрановой процесс и, в то же время, пытаясь снять кальку с европейских программ регионального развития, эти разработчики часто забывают, что имеют дело лишь с верхушкой айсберга, в основании которого — вполне артикулированные геостратегические интересы основных участников процесса европейской интеграции.
За популизмом так называемых «социально-ориентированных» программ ряда российских регионов скрывается полное игнорирование того факта, что именно от места страны в мировом хозяйстве зависит уровень социального развития и благосостояние населения, проживающего на ее территории. Понятная политическая игра с социальными идеалами, которую ведут руководители ряда регионов, все больше формирует идеологическую напряженность по оси «центр — субъекты федерации».
Именно фактор геоэкономической конкуренции, в которую объективно включена современная Россия, задает новые требования к государственной региональной политике. Условием роста благосостояния российского населения становится переход от конкуренции между внутренними территориями России к обеспечению их кооперации и конкурентоспособности в геоэкономическом масштабе. Государство должно определить, в чем конкретно выражаются возможные позиции страны, ее регионов и корпораций в мировой экономике, а соответственно — какие стратегии поддерживать и во что вкладывать централизованные ресурсы. Региональная политика, в свою очередь, призвана обеспечить переход к этим новым позициям.
VI
В условиях геоэкономической конкуренции ключевым вопросом становится готовность государства к развитию и инновациям. Региональная политика перестает быть только компенсирующей объективные территориальные диспропорции. Она все больше становится развивающей, то есть ориентированной на освоение перспективных хозяйственно-экономических укладов, запуск новых видов деятельности, формирование современных инфраструктур, изменение территориальной структуры хозяйства и системы расселения.
Обеспечивая движение в заданном направлении, региональная политика стимулирует или, наоборот, ограничивает развитие тех или иных районов (ареалов). Практически во всех развитых странах разрабатываются «картины будущего», в прорисовке которых помимо государства принимают участие бизнес, местные сообщества и различные «профессиональные цеха». Эти картины описывают, а во многом и предписывают, как должно быть устроено «подведомствен-
ное» государству пространство. Основной задачей региональной политики становится практическое воплощение этих «картин будущего» в жизнь.
Государство активно вмешивается в процессы регионального развития, используя для этого как исполнительную, так и законодательную власти разных уровней, подключая рыночные механизмы и интегрируя в общий процесс бизнес, общественно-политические институты и локальные инициативы населения. В современном динамичном мире развитие регионов перестает быть простой реализацией когда-то написанных «кабинетных» программ. Оно все больше становится постоянным поиском новых идей, конструированием схем управления региональными процессами, согласованием процедур постановки проблем и выделения приоритетов, технологий разработки региональных проектов, программ и стратегий, механизмов мониторинга и т.д.
VII
Важной характеристикой региональной политики считается ее централизм. Всегда присутствует некий штабной центр, в котором принимаются основные решения и который обеспечивает координацию различных институтов, вовлеченных в процесс реализации региональной политики. Необходимость принятия решений «наверху», то есть на уровне, с которого можно оценить ситуацию, взвесить проблемы и понять перспективы регионов, вовсе не означает, что региональная политика должна и реализовываться «сверху». В рамках принятых штабным центром решений часто именно сами регионы наилучшим образом используют представившиеся возможности. В результате этого, в ряде стран роль центрального правительства смещается в сторону разработки и координации политики, а не ее проведения.
Мировая практика показывает, что помимо штабного центра, функции которого, как правило, выполняет специальное министерство региональной политики, существуют также комитеты и агентства регионального развития. Их функционал в системе регионального развития выглядит следующим образом:
Министерство региональной политики выполняет функции штабного центра, то есть принимает основные решения в области региональной политики, организует их реализацию и финансирование, координацию и контроль;
Комитеты по пространственному планированию, как правило, объединяют ряд административно-территориальных единиц и обеспечивают публично-правовой характер и нормативную структуру региональной политики (лицензирование, стандартизацию, унификацию, оценку и т.д.);
Агентства регионального развития являются экстерриториальными операторами региональной политики рыночного типа, то есть интегрируют инициативу бизнеса, территориальных и профессиональных сообществ.
Конкретная институциональная модель, которая выбирается для разработки и реализации региональной политики, зависит от множества факторов. Даже развитые страны сильно отличаются и по остроте региональных проблем, и по уровню территориальных диспропорций, и по уровню политической культуры с ее отношением к «допустимому неравенству» территорий, и по методам государственного вмешательства в региональные процессы. Специфика геоэкономических интересов также влияет на выбор институциональной структуры, так как порождает кооперативные связи и стратегические партнерства различных территорий и государств.
В унитарных государствах региональная политика — институционально обособленное направление деятельности центральных органов власти (например, в Греции, Португалии, Италии), в федеративных (США, Германии, Австрии, Бельгии и т.д.) значительные права в области общегосударственной региональной политики имеют субъекты федерации. При этом “баланс сил” определяется реальным типом федеративных отношений (соревновательный федерализм, расширенный федерализм, федерализм автономий, функциональный федерализм и т.д.).
VIII
Если мы ставим перед собой задачу проектирования институциональных механизмов регионального развития для России, необходимо четко определиться с тем, переход к какой модели развития должны обеспечить эти институты, в какой парадигме развития Россия собирается строить свое будущее.
Россия — огромная по размерам своей территории страна. Этот факт то рассматривается как источник ее возможного могущества, то как причина ее проблем и ограничение на развитие. Эпоха экстенсивного (колониального) освоения территорий, когда масштаб владений предопределял статус и хозяйственную мощь той или иной страны, закончилась еще на рубеже XIX и XX веков. Начиная с этого периода и до последней четверти прошлого столетия, развитие понималось как индустриализация. Территория становилась той физической платформой, на которой происходило размещение производительных сил. Территориальная политика государств была направлена на то, чтобы обеспечить оптимальную конфигурацию на территории главных факторов индустриального производства — рабочей силы, основных фондов, энерго-сырьевых источников, обслуживающих комплексов и инфраструктур.
Начиная с 1990-х годов, индустриальные приоритеты регионального развития в постсоветской России оказались утрачены. И причина не только в смене общественно-политического курса. Во многом сама эта смена была предопределена общемировым кризисом индустриальной модели развития. Индустриальные сектора экономики бывшего СССР уже не давали той «дельты», которая позволяла бы финансировать государственную машину межрегионального и межотраслевого перераспределения ресурсов. Старые централизованные механизмы регионального управления и планирования разрушились, а новые так и не сформировались.
В этот период Запад совершил скачок вперед, приняв модель инновационного развития, которая пришла на смену индустриальной. Важнейшей задачей в области региональной политики стало формирование институциональных механизмов и инфраструктур инновационной экономики: на каждом уровне — наднациональном, страновом, региональном, локальном. Так называемая «экономика знаний» опирается уже не на природные ресурсы, а на человеческий капитал, и потому ставит перед региональной политикой вопрос о формировании среды для восстановления и развития человеческих и природных ресурсов. Существенно возрастает роль гуманитарного фактора в обеспечении экономического роста. Ускоренными темпами создаются инфраструктуры, обеспечивающие экологизацию хозяйственной деятельности, информатизацию управленческих процессов и капитализацию человеческих ресурсов. Прежнее отношение к территории как объекту индустриального освоения и эксплуатации, свойственное индустриальной фазе развития, уже не работает. Региональная политика все больше приобретает средовой характер, трансформируясь в так называемое «пространственное развитие».
IX
Принятие инновационной модели развития порождает ситуацию, при которой основная доля в добавленной стоимости достается центрам управления инновационными процессами. Эти центры, как правило, контролируются крупнейшими транснациональными компаниями, они значительно более мобильны, чем традиционное индустриальное производство, и могут достаточно свободно перемещаться поверх административно-территориальных границ. Уход центра управления с территории означает и перемещение центра прибыли, что превращает размещенные на территории технологические комплексы в производственные цеха — фактические центры затрат, несущие к тому же на себе все экологические и социальные риски.
Все это начинает порождать новые диспропорции в территориальном развитии современных государств. Наиболее прибыльная деятельность, финансовый и человеческий капитал начинают концентрироваться в небольшом количестве мест («центрах развития»), где скапливаются основные мощности инновационного уклада — центры принятия решений, информационные технологии, базы знаний. Все остальные территории автоматически превращаются в сырьевую и технологическую периферию — в поставщиков необходимых ресурсов и в зоны для сброса устаревших технологий.
Новая региональная политика России должна быть соразмерна и сомасштабна этим процессам. Нужны новые инфраструктуры, способные обеспечить всем регионам равный доступ к инновационному развитию.
X
Дальнейшая индустриализация российских территорий бессмысленна как с культурно-исторической точки зрения, так и в силу отсутствия у государства достаточных средств. Региональное развитие в его индустриальной модели предполагало масштабные государственные инвестиции в новое индустриальное и социальное строительство, а также развертывание больших миграционных проектов.
У России нет новых «прорывных» технологий и индустриальных проектов, требующих гигантского строительства и способных обеспечить долгосрочный региональный рост. Даже в «сырьевых зонах» применяемые технологии не требуют больше миграции больших масс людей, а опираются на «вахтовые методы». Специфические для советской эпохи силовые и идеологические средства мобилизации человеческих ресурсов уже не могут быть использованы и, поэтому, индустриализация сырьевых зон неминуемо окажется не обеспеченной рабочей силой.
Существует точка зрения, что индустриализация как парадигма развития отдельных территорий реализуема в отношении Дальнего Востока, куда может быть открыт доступ рабочей силы из Восточной Азии, по своему качеству соответствующей условиям промышленного производства. Однако такой сценарий регионального развития для России в настоящий момент представляется умозрительным. Вряд ли кто-либо из существующей властной элиты согласится жить как в Китае.
Вероятность же проведения индустриализации без масштабной миграции оценивается экспертами как очень незначительная. Для этого должна сформироваться новая индустриально-технологическая платформа. Но пока еще не сложилась критическая масса ее возможных прототипов. Наверное, в тот момент, когда эти прототипы станут эталоном, можно будет говорить о неоиндустриальной парадигме развития, ассимилирующей в себя энергию инновационной и по-новому собирающей территории и человеческие ресурсы.
Альтернативы инновационному развитию у России нет. Инновационная экономика должна стать не только самостоятельным сектором российской экономики, но и условием повышения конкурентоспособности других отраслей. Кардинальное увеличение добавленной стоимости, создаваемой в инновационном секторе и с помощью инноваций в традиционных отраслях, должно стать одним из важнейших государственных приоритетов. Государственная региональная политика России, в свою очередь, должна стимулировать переход к инновационной модели развития и придать новый культурный и геоэкономический смысл региональным проектам и инициативам. Ее основная задача — обеспечить концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях и создать условия для межрегиональной кооперации и стратегического партнерства власти, бизнеса, общественных институтов в рамках инновационной модели развития. Должны быть сформированы новые — инновационные — технологии управления развитием территорий, работающие на повышение конкурентоспособности российских регионов и страны в целом.
XI
Анализ современных институциональных моделей регионального развития показывает, что они, в конечном счете, представляют собой институциональную «зашнуровку» трех разных технологий:
политической технологии (к ней можно отнести и идеологию «пространственного развития»), необходимой для учета различных факторов регионального развития, согласования интересов, целей и приоритетов разного уровня, формирования консенсуса участников, контроля за соблюдением установленных «правил игры».
интеллектуальной технологии, отвечающей за разработку картины будущего, формулирование проблем и поиск наиболее эффективных решений (она все больше приобретает характер коллективной мыследеятельности и находит новые институциональные формы, выходя за рамки традиционных научных учреждений и университетов);
управленческой технологии (или технологии территориального планирования и правоприменения), призванной обеспечить реализацию поставленных целей регионального развития с учетом реальных временных, финансовых, организационных, человеческих и других видов ресурсов;
Управленческие и политические аспекты региональной политики были описаны выше, и особых проблем в их организационном оформлении, казалось бы, не возникает. Однако российский опыт наглядно демонстрирует, что любые институциональные реформы, проводимые без учета интеллектуальной технологии, обречены на провал: в результате сложных политических торгов создаются организационные структуры, затем они наполняются людьми, которым придаются определенные полномочия, но потом выясняется, что интеллектуальный процесс по этим структурам не течет. Известная фраза «хотели как лучше, а получилось как всегда» является хорошим отражением этой ситуации.
В этой связи можно утверждать, что институционализируется, в первую очередь, именно интеллектуальная технология, а управленческие структуры и политические форматы призваны обеспечить ее поддержку, воспроизводство и «общую дуракоустойчивость».
Принятие инновационной парадигмы развития предъявляет еще более высокие требования к качеству интеллектуальных технологий, заложенных в основу институциональной структуры, и уровню ее общей креативности.
XII
Интеллектуальная технология стратегического планирования предполагает как последовательное, так и параллельное развертывание указанных блоков процессов. Понятно, что в той мере, в которой мы продвигаемся в процессе определения приоритетов, возникают дополнительные требования к анализу ситуации, может потребоваться самоопределение по отношению к новым контекстам, оценка реальных ресурсов и проектной активности приведет к корректировке приоритетов и т.д. Весь этот комплекс работ уже не возможно запихнуть в одну институциональную форму — будь то Госплан или Правительство. Требуется развернутая институциональная структура с вертикальными, горизонтальными и диагональными связями, обеспечивающими движение необходимых интеллектуальных процессов. Это означает, что в
перспективе должна быть выстроена новая кооперация институтов — федеральных, окружных, региональных и муниципальных, с одной стороны, и государственных, предпринимательских и гражданских — с другой.
XIII
В 1990-е гг. советская (госплановская) институциональная схема перестала существовать, продемонстрировав свою неэффективность. Рыночная идеология заменила идеологию плановую. Однако новые институциональные механизмы регионального развития до настоящего времени так и не сформировались. Используемые в процессе регионального планирования технологии мало изменились. Контуры схемы советского периода продолжают проступать, хотя и под другими именами, в процессе разработки и реализации федеральных целевых программ. Многочисленные «хотелки» регионов появляются в результате одно-двухмесячной кабинетной работы преимущественно московских фирм и оформляются в так называемые «программы социально-экономического развития», не имеющие внятных и согласованных с государственной политикой приоритетов. В результате административно-политических торгов и индивидуального лоббирования эти программы получают какое-то государственное финансирование, но никогда не реализуются. Структуры общественной и государственной коммуникации по поводу региональной политики отсутствуют. Правительство понимает, что вовлечение в этой ситуации в процесс разработки региональной стратегии представителей от субъектов федерации может полностью парализовать и без того с трудом отлаженный механизм принятия решений.
Необходимость в проведении институциональной реформы государственной региональной политики не вызывает никаких сомнений. Создание институционального механизма регионального развития должно стать государственным приоритетом.
Алексеев О.Б., Щедровицкий П.Г., Шейман Д.И. Институциональные
механизмы регионального развития//Казанский федералист. 2002. № 3.
С. 9-12.(37-47)